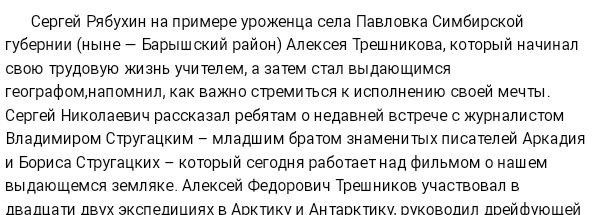Автор - Мария Елиферова
За четверть века до «Имени Розы»
Братья Стругацкие как пророки русского постмодернизма
Аркадий и Борис Стругацкие начали использовать постмодернистские приемы почти одновременно с первыми западными экспериментами и предвосхитили многие открытия русской литературы девяностых и нулевых. О том, откуда взялся постмодернизм Стругацких, рассуждает Мария Елиферова.
Братьям Стругацким — наряду с Рэем Брэдбери — выпала сомнительная честь быть одними из немногих авторов «твердой НФ», признанных социальной группой под названием «я фантастику вообще-то не читаю». Когда обсуждают причины читательского успеха Стругацких, обычно рассматривают в первую очередь социальную философию их произведений. Гораздо меньше внимания уделяется их новаторству в области художественного языка. Бытует даже точка зрения, что они вообще не внесли никакого вклада в литературу по этой части.
Это удивительное недоразумение, если учесть, какую роль фантастическое играет в современном постмодернистском письме — достаточно упомянуть творчество Михаила Успенского, одновременно фантаста, постмодерниста и кумира значительной части филологов. Трудно предположить, будто в его становлении не сыграл никакой роли «Понедельник начинается в субботу», да и сам жанр шуточного фэнтези на российской почве не может притворяться, будто независим от этого романа.
До сих пор недооцененная заслуга Стругацких состоит в том, что они и были первыми авторами, которые привнесли в русскую литературу принципы постмодернистского письма — ироническую игру аллюзиями и культурными контекстами, перелицовку известных мифологических и литературных сюжетов, смешение стереотипов «высокого» и «массового». Впервые эти приемы появляются в «Попытке к бегству» (1962), где люди будущего то цитируют и переиначивают японскую поэзию, то шутят на тему структурной лингвистики, то пускаются в наукообразные и комические по нелепости истолкования словосочетания «банный лист», причем к основному сюжету все это не имеет ни малейшего отношения — это чистое наслаждение смысловой наполненностью. Еще в «Стажерах» глава, посвященная читательскому опыту, была решена средствами традиционного реалистического письма: герои просто читали книги и обсуждали их с идейной точки зрения.
читать дальше