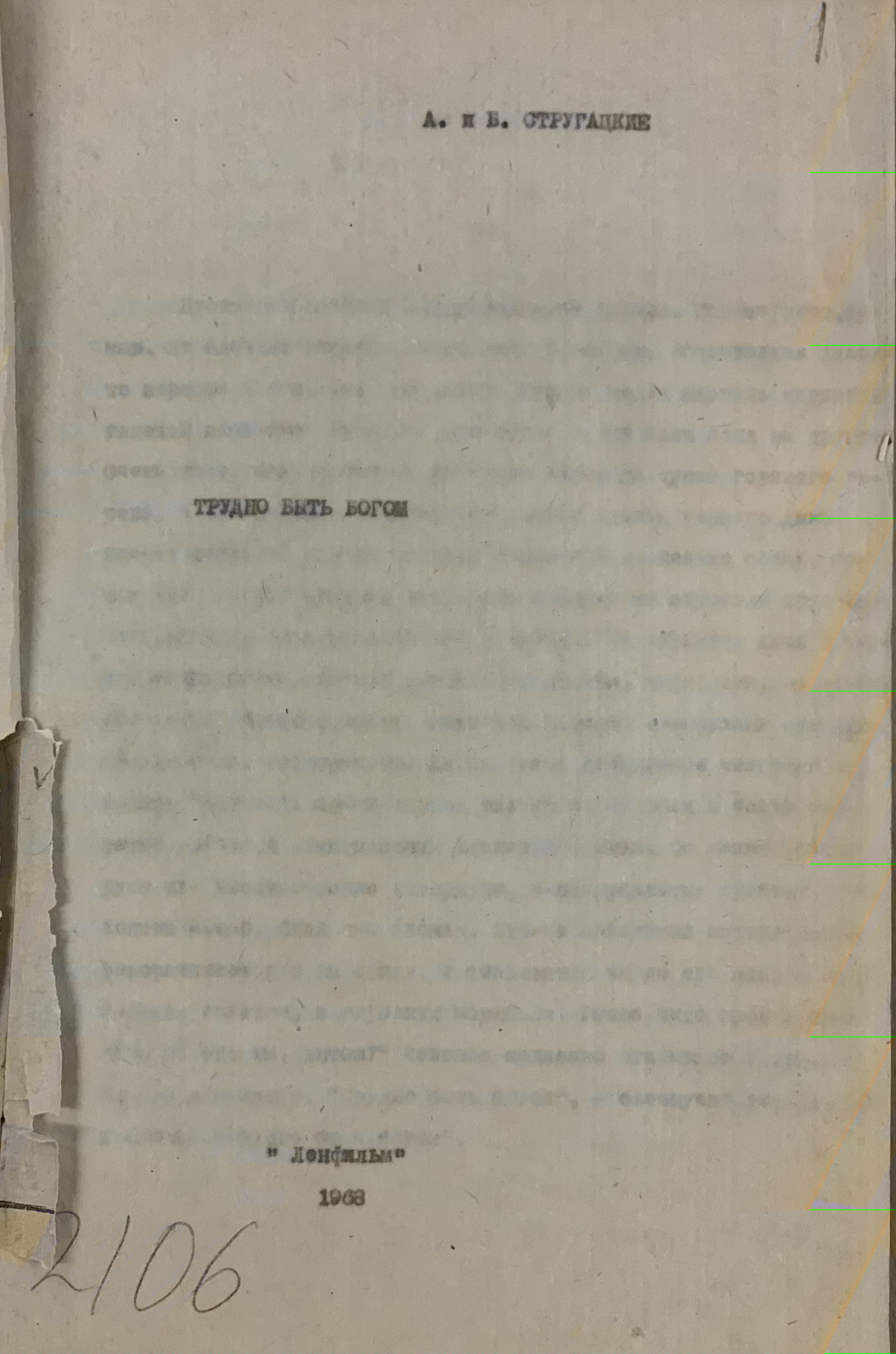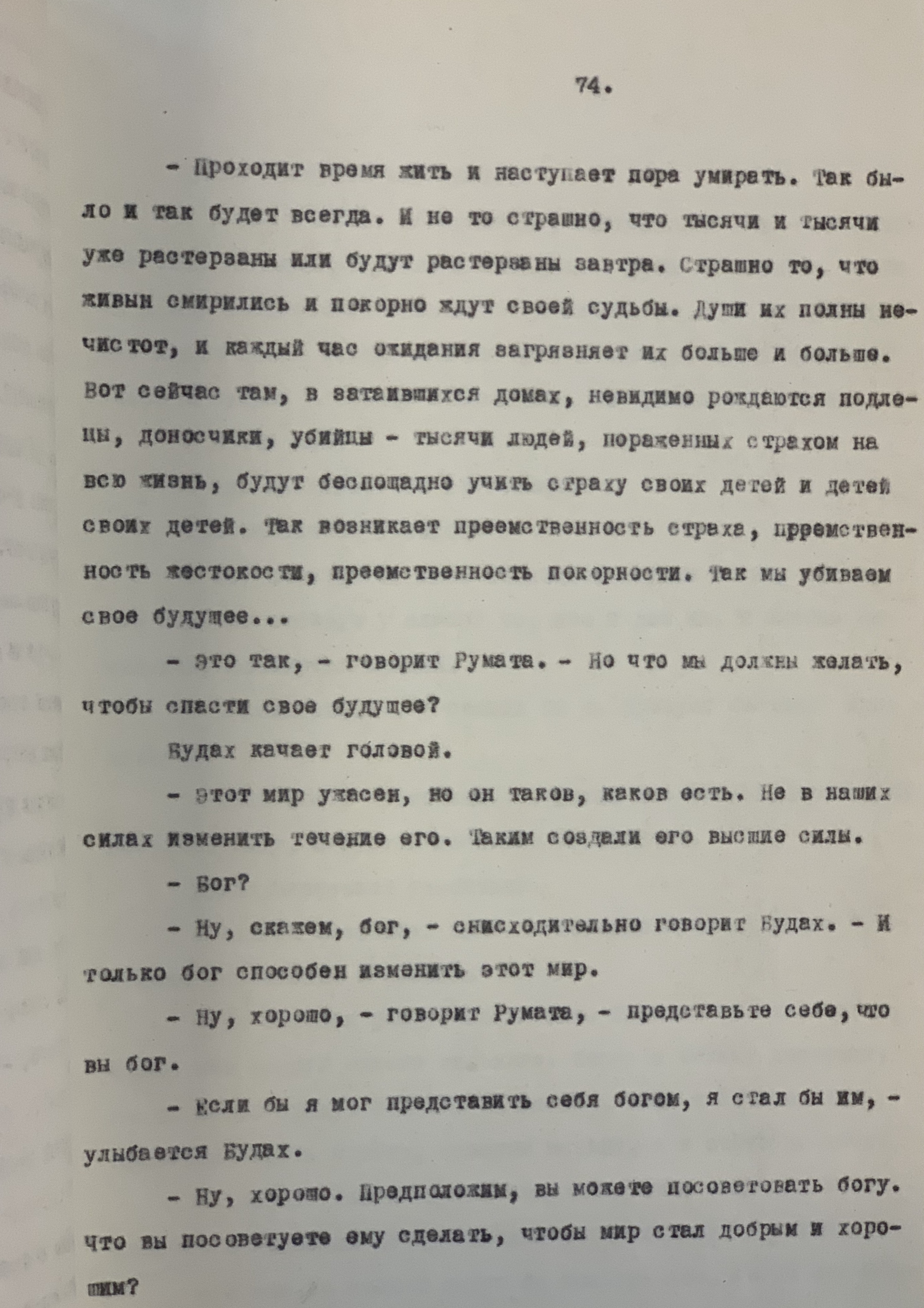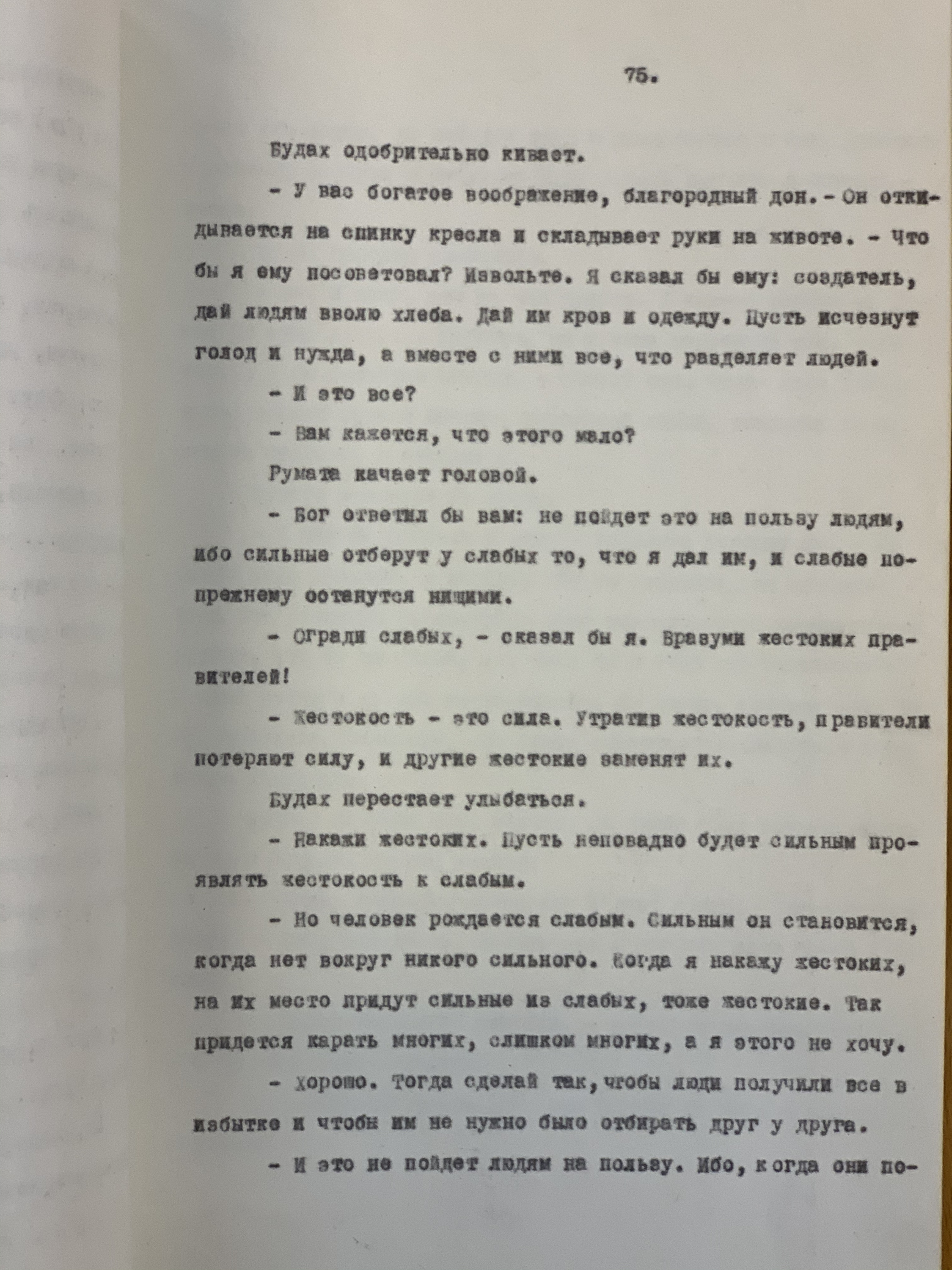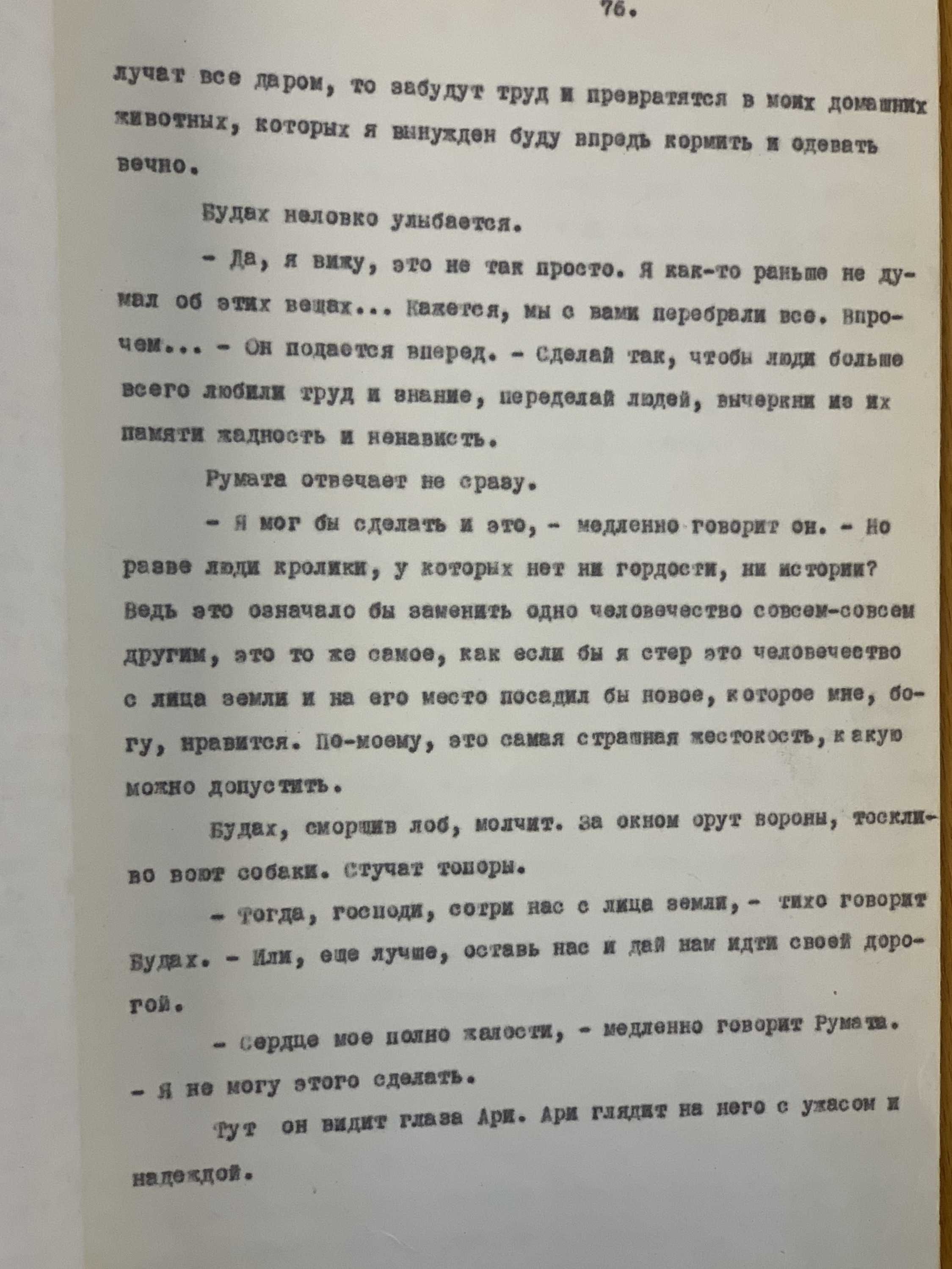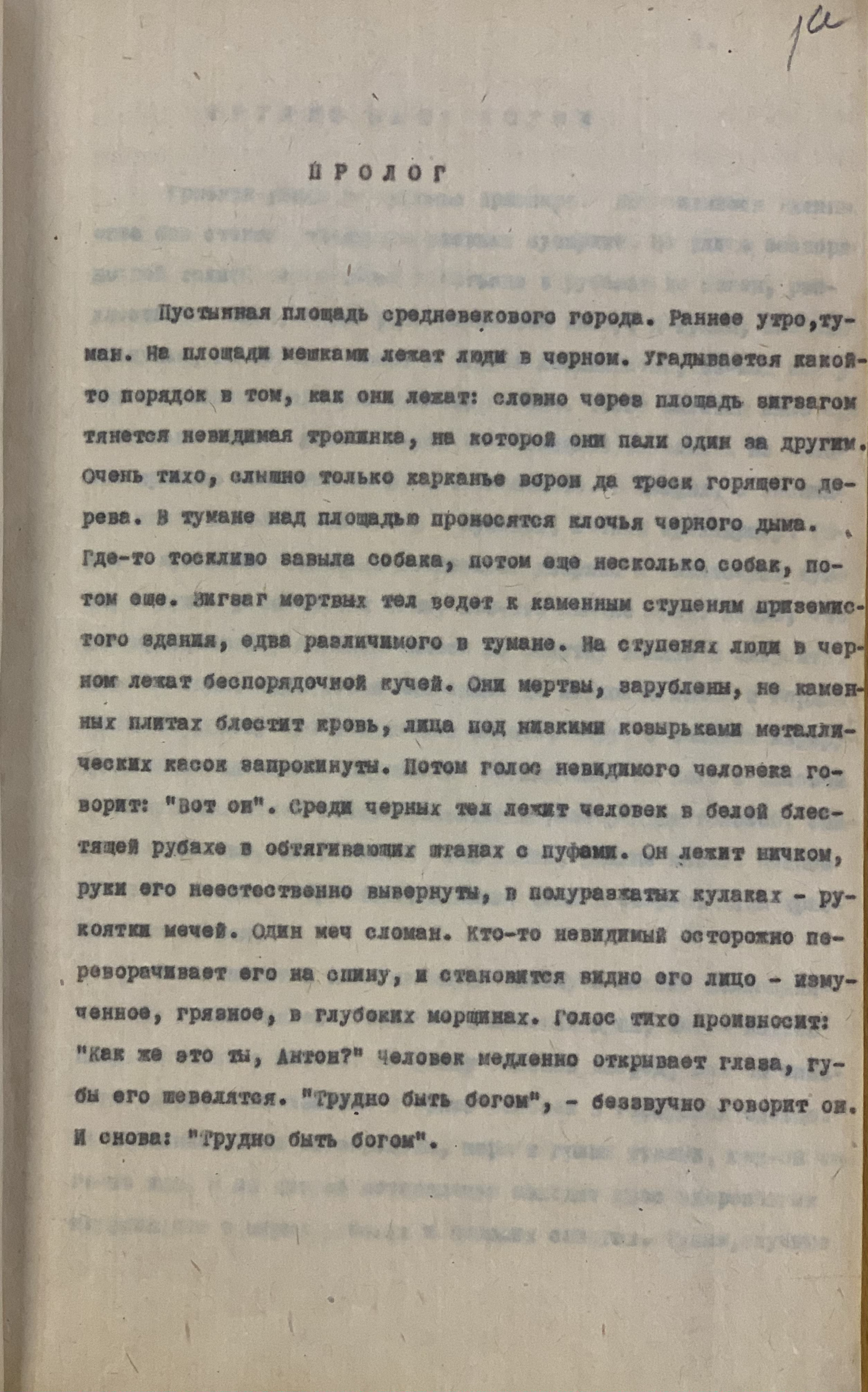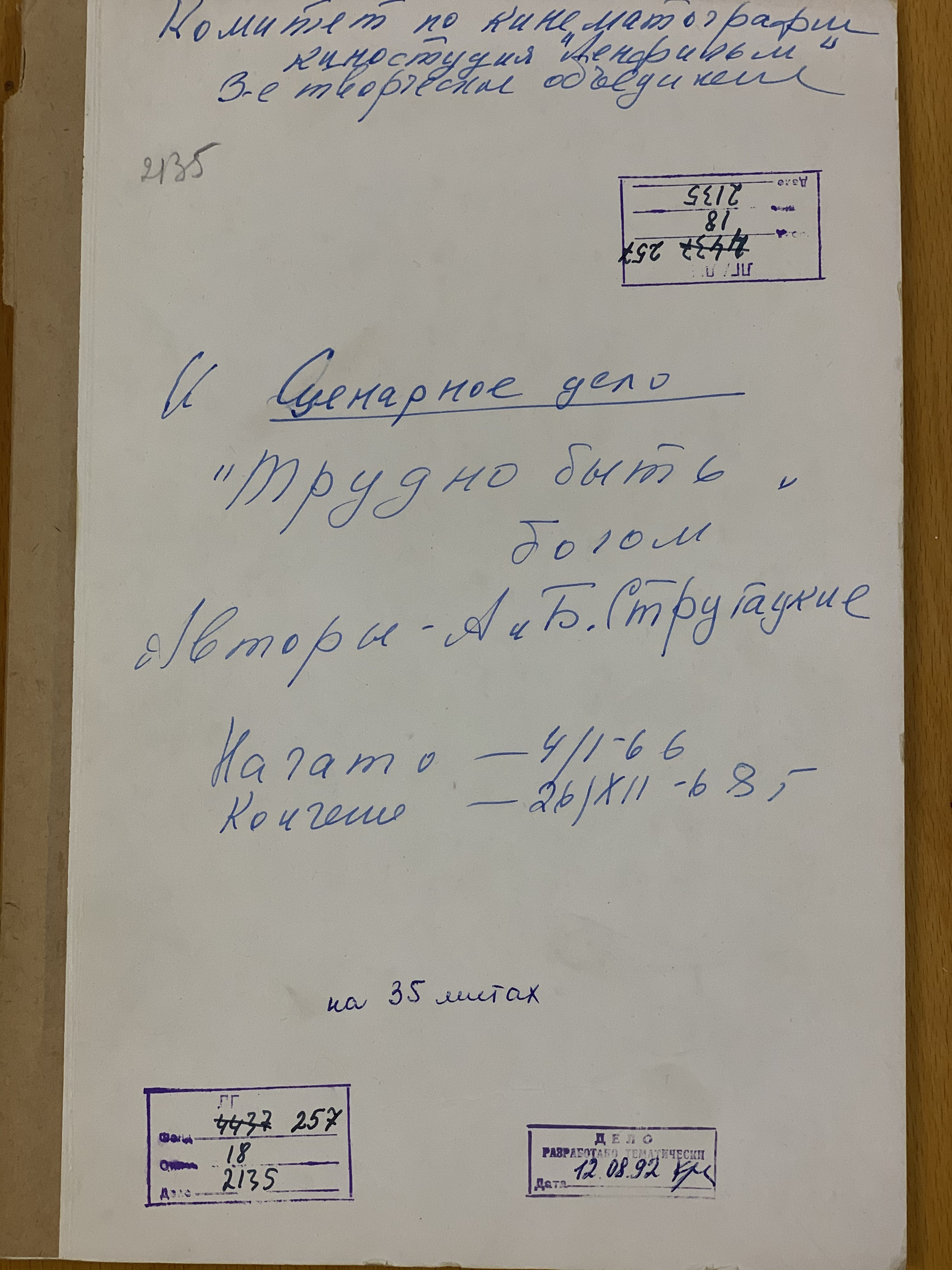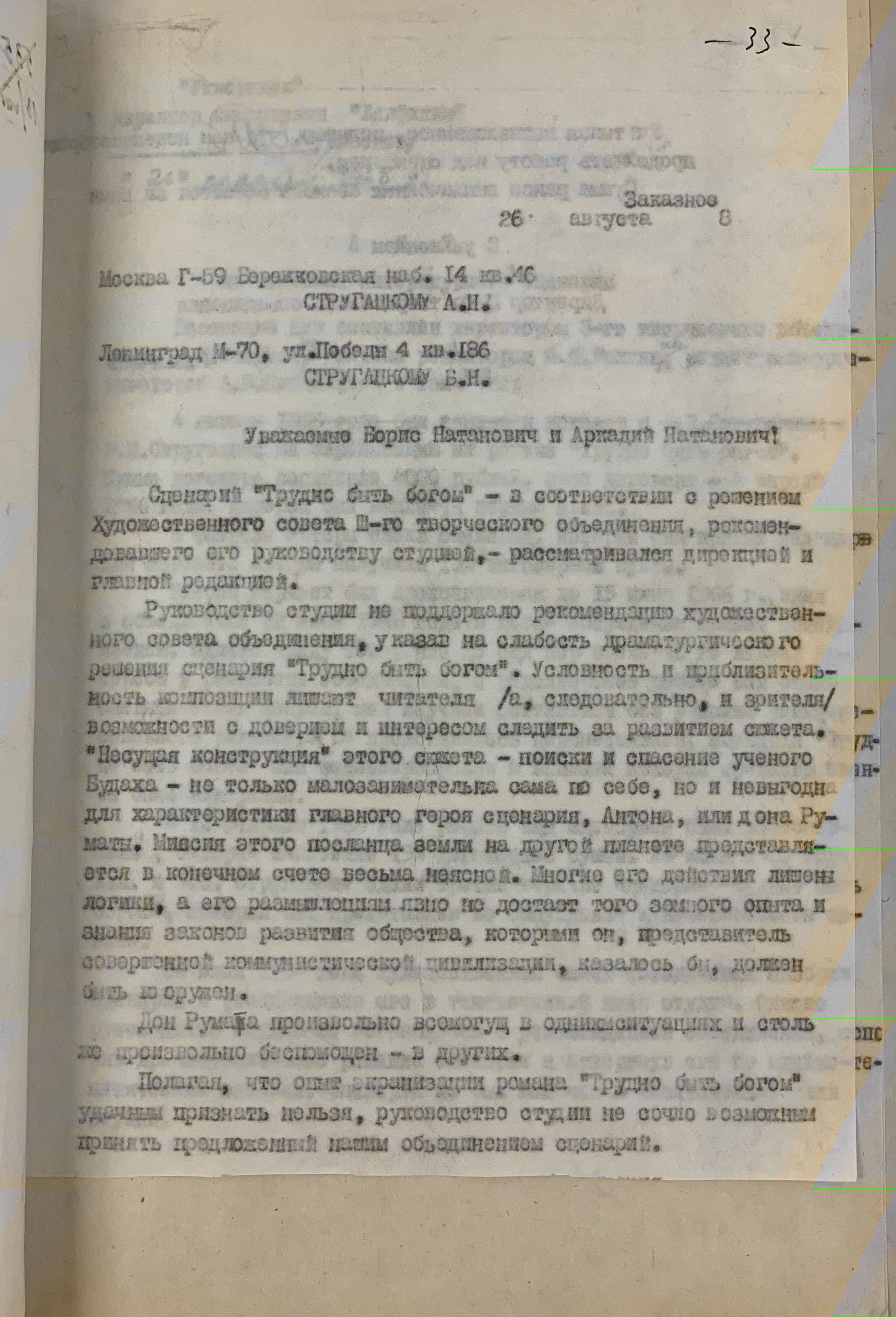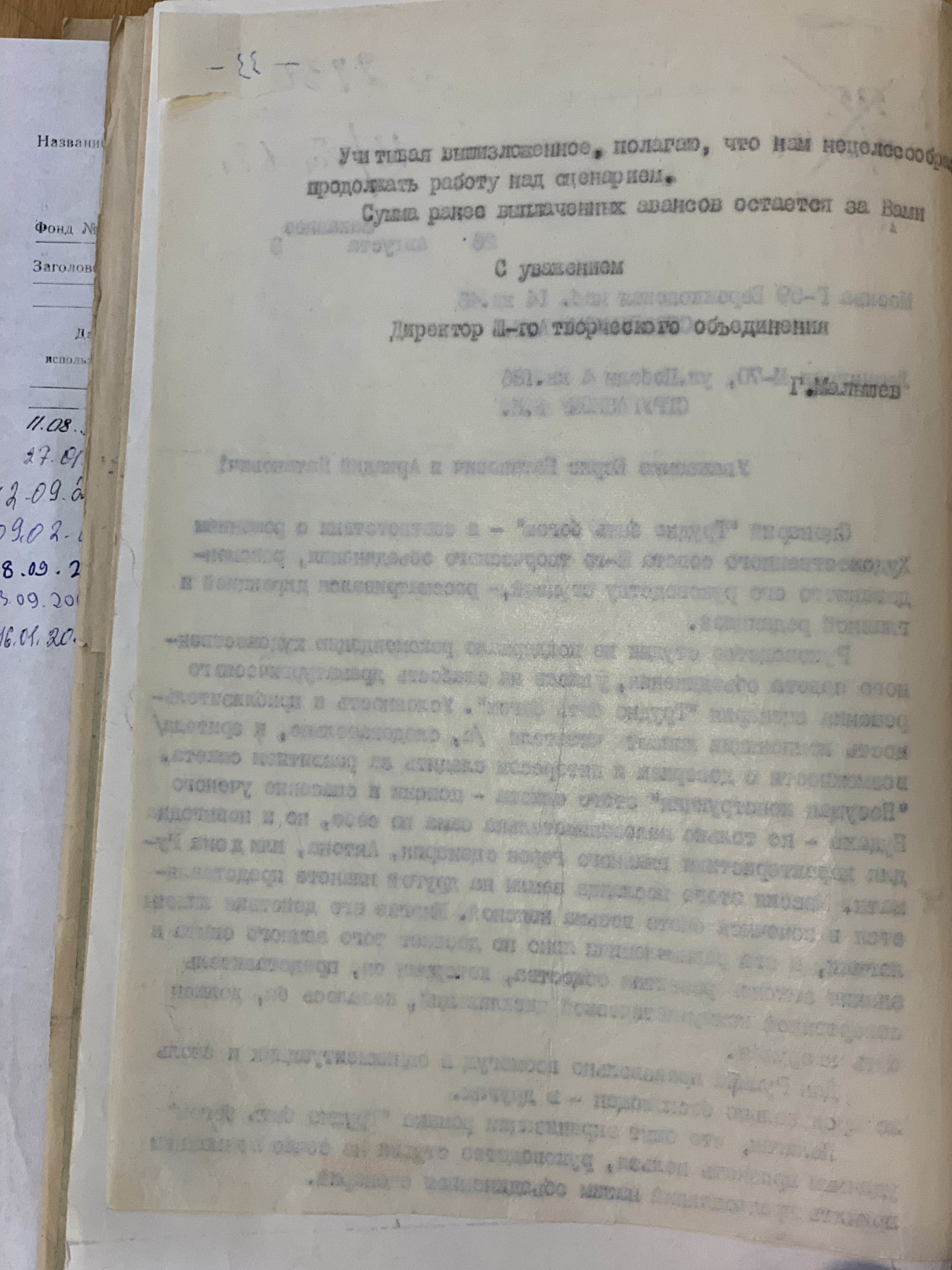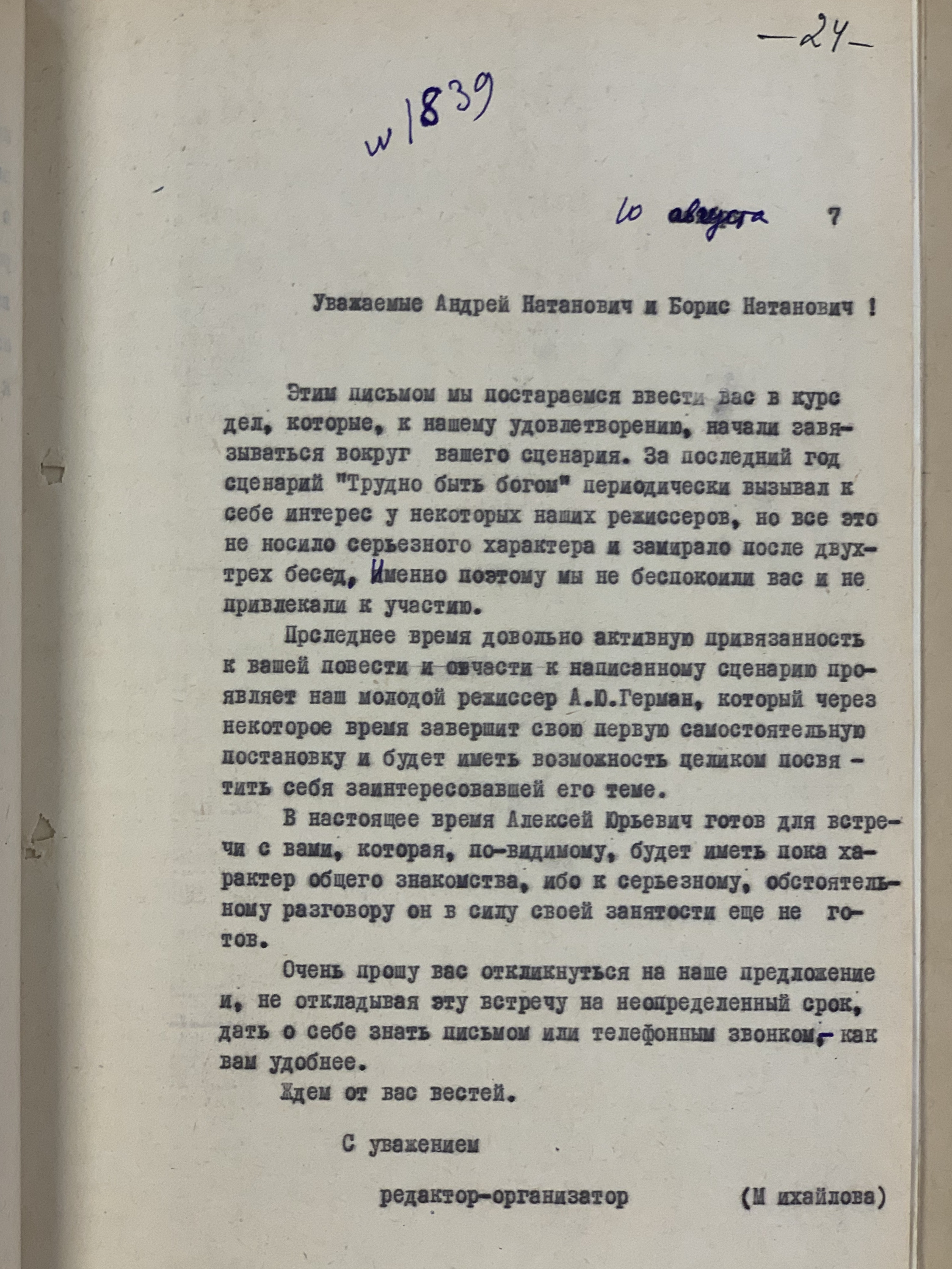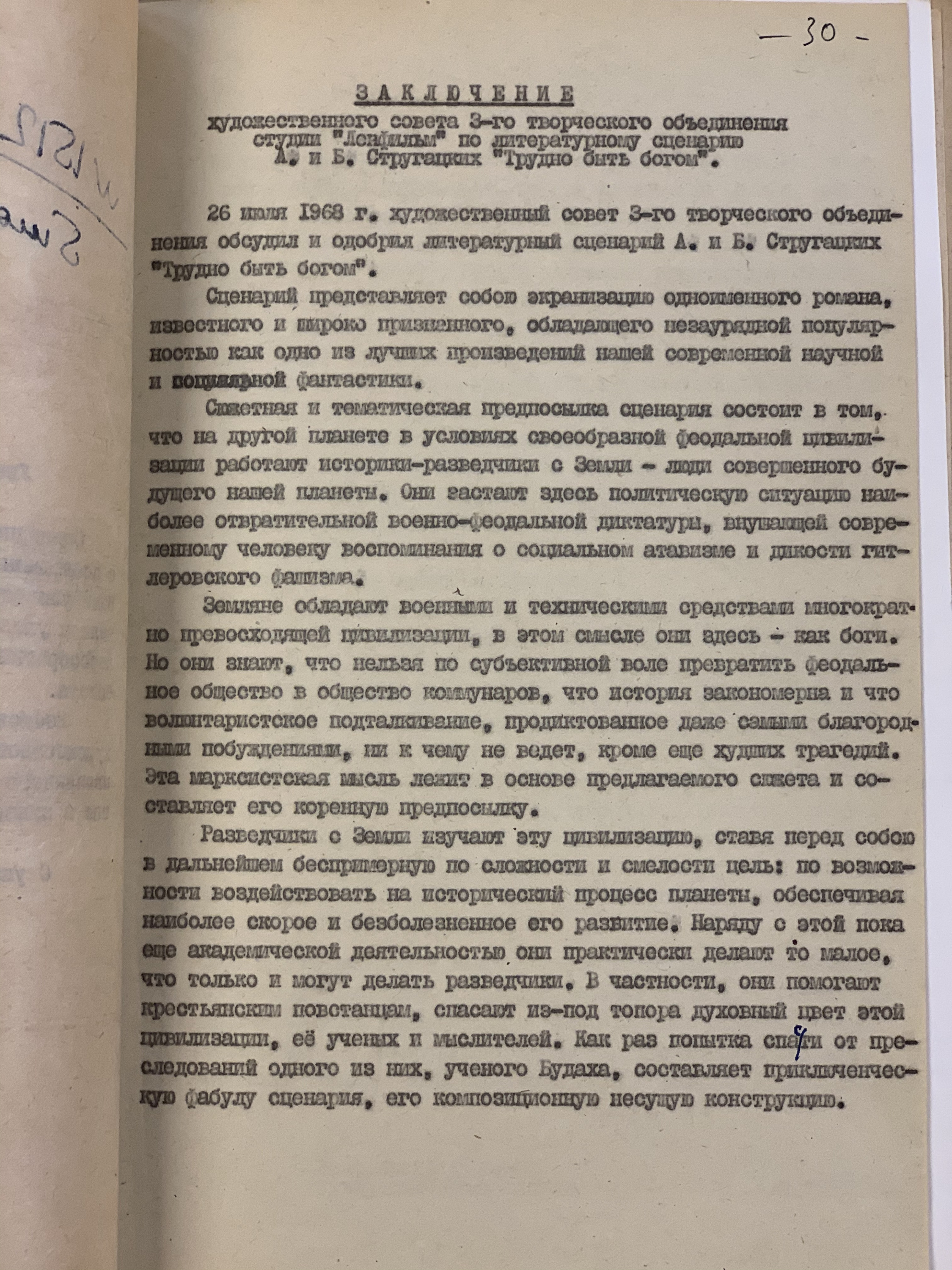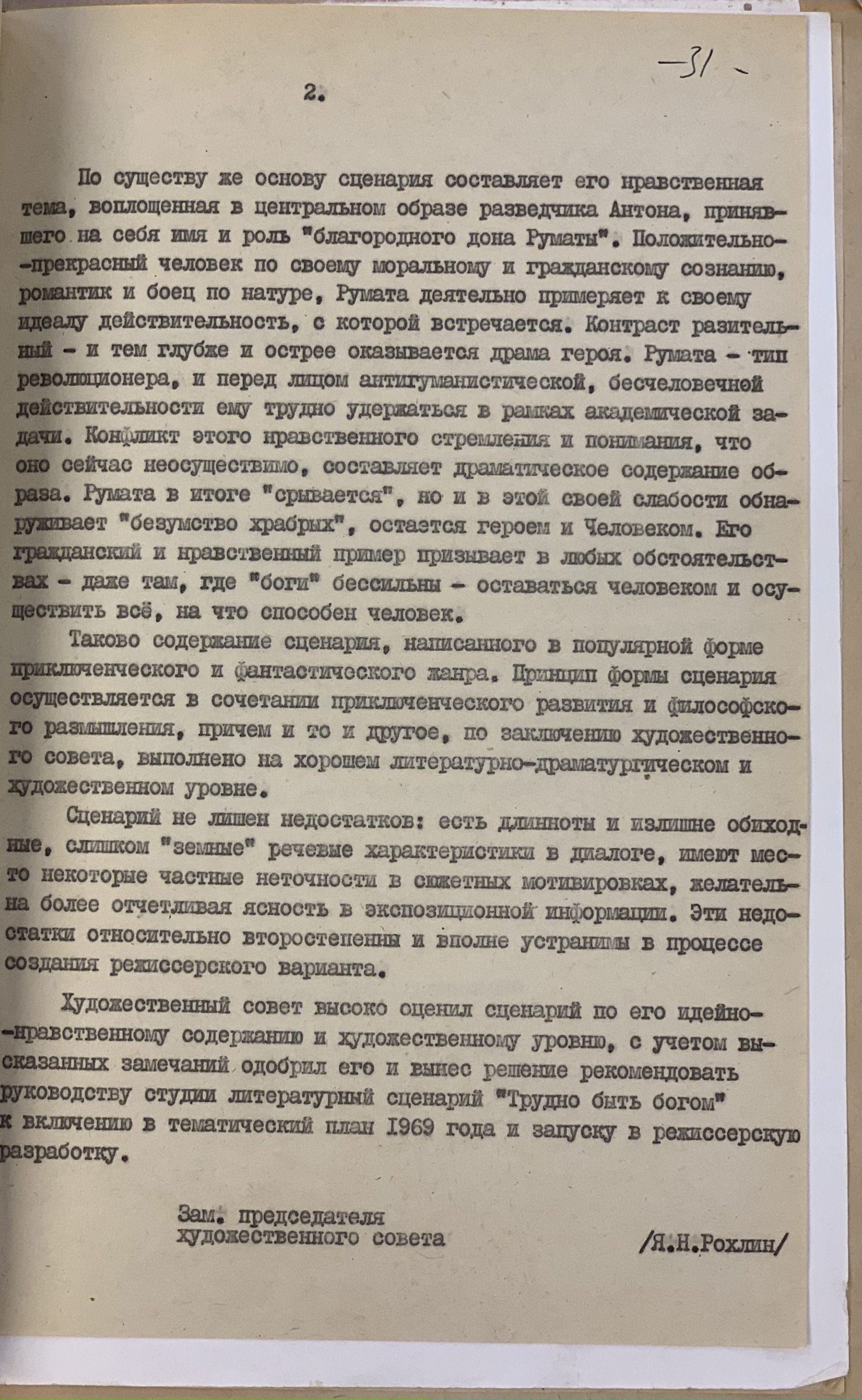СТРУГАЦКИЕ: XXI ВЕК
Круглый стол, ответы на вопросы
обзор
СТРУГАЦКИЕ: XXI ВЕК
К 95-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого
Сейчас, когда прошло более 60-ти лет после выхода первых совместных книжек Аркадия и Бориса Стругацких (повести «Страна багровых туч» и «Извне»), понятно, что книги братьев фактически сформировали несколько поколений советских (и постсоветских) читателей — точно так же, как сами они предполагали благодаря гуманистической системе воспитания сформировать нового человека несостоявшегося светлого коммунистического будущего. Авторы, чье детство и отрочество прошло «в присутствии Стругацких», а нынешняя сфера деятельности так или иначе связана с фантастикой и/или педагогической и просветительской деятельностью, отвечают на вопросы «Нового мира».
1. Были ли Стругацкие художниками, исследующими натурфилософскую проблематику, или социальными мыслителями, которые в силу специфических обстоятельств вынуждены работать с художественной литературой?
2. Какие влияния русской литературы можно найти в творчестве Стругацких?
3. Какие влияния мировой классики и современной им литературы зарубежной?
4. Стругацких вполне можно назвать социальными педагогами, которые воспитали несколько поколений молодежи. В чем состояло это воспитание и влияние, оборвался ли этот процесс, и если да, то когда?
5. Определенная часть произведений Стругацких проходила по разряду «для детей и юношества». Изменилась ли с тех пор литература для этого сегмента?
6. Что для вас в наследии Стругацких сегодня кажется безусловно устаревшим, что живым и актуальным, а что — живым, но для вас совершенно неприемлемым?
Татьяна Бонч-Осмоловская — поэт, писатель, литературовед. Физик по образованию. Работала в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Глава ассоциации «Антиподы. Русская литература в Австралии». Организатор австралийских фестивалей русской литературы «Антиподы» (Сидней), автор учебного курса комбинаторной литературы (гуманитарный факультет МФТИ), а также повести «Развилка». Постоянный автор «Нового мира».
1. Вопрос подразумевает характерную особенность художественной литературы быть глуповатой, или «девочка, ты песенку споешь или теорему Виета докажешь?» Такое представление исключает из рассмотрения умную (эргодическую) литературу, обращенную к образованному (желающему учиться) читателю. А ведь литература может активно оперировать философскими, естественно-научными и социальными концепциями, как и опираться на корпус художественной прозы и поэзии.
Стругацкие были писателями этого направления, подразумевающего активное обращение к культурному наследию и размышления о сложном.
Это специфические обстоятельства позднесоветского общества, что большинство их читателей узнавали об этих теориях и текстах из произведений Стругацких и зачастую ими и довольствовались. И благо, что узнавали и, вдохновленные, принимались думать сами, исходя хотя бы из пересказа, или же пытаться найти первоисточник.
2. В текстах Стругацких присутствует множество отсылок и цитат, явных и скрытых, а также переработанных со страстью или иронией. Они не столько принимают, сколько полемизируют с авторами прошлого (или настоящего). Часто это едва ли не центонные тексты, со свойством центона переворачивать смыслы исходных фрагментов при сопоставлении их с другими или при введении косвенной речи. Так что множественные отсылки к произведениям русской литературы, проявляющиеся в текстах Стругацких, выступают скорее в категории «предыдущие исследования», чем «влияния».
Гоголь, разумеется. Салтыков-Щедрин. Достоевский. Замятин. Булгаков. Платонов. Ильф и Петров. Беляев. Ленин. Шкловский. Пропп. Щедровицкий. Поэзия (Н. Гумилев, Пастернак…).
3. То же относится и к мировой классике, разумеется.
Упанишады. Возможно, Лукиан. Платон. Аристотель. Иоанн Богослов. Фома Аквинский. Кампанелла. Вольтер. Свифт. Даниель Дефо. Гегель. Жюль Верн. Эдгар По. Джек Лондон. Марк Твен. Льюис Кэрролл. Редьярд Киплинг. Роберт Стивенсон. Бертран Рассел. Франц Кафка. Фрейд. Юнг. (А у меня есть карты Mademoiselle Lenormand, гадавшей Жозефине де Богарне, к неудовольствию ее супруга, императора Наполеона!) Олдос Хаксли. Агата Кристи. Герман Гессе. Йохан Хейзинга. Сэй Сёнагон. Кобо Абэ. Акутагава. Европейская поэзия (Кристофер Лог). Японская поэзия (Исса Кобаяси, Есано Акико).
Несть им числа.
4. Открытие нового знания прежде всего. Как и из рассказов Борхеса, из повестей Стругацких выглядывал неизвестный мир культуры и мысли, неизвестные авторы и произведения. Да что там, активно влезал в головы читателей, провоцируя размышления о культуре в широком смысле, обо всем, произведенном человечеством (знанием всех тех богатств), а там и втягивая в диалог, в диспут, так что читатель не просто пробегал вдоль сюжета, но задумывался, обсуждал с приятелями, пытался разыскать «умные книги» и снова обсудить, написать свое — отсюда множество «пост-Стругацких» авторов.
Еще — авторы задавали моральные пределы, подносили лупу к явлению, расшифровывали и показывали, причем со страстью — когда с хохотом, когда с отчаянием. А читатель проникался и, бывало, прикладывал понимание к собственной практике — строил «НИИЧАВО» в собственной фирме, примерял на себя роль Руматы или Максима Каммерера. А Выбегалло — никогда!
Влияние, на мой взгляд, не оборвалось — есть ряд писателей, которые ориентируются на Стругацких. Вернее, среди пишущих на русском языке сложно найти тех, кто не ориентируется — в том числе посредством отрицания. Соответственно, продолжается и воздействие на читателя — непосредственно Стругацкими или другими голосами. В том числе в социальной педагогике — если проза Ольги Фикс находится где-то между Стругацкими и Урсулой ле Гуин, с разработкой гендерных ролей и грустным финалом, то у А. Жвалевского и Е. Пастернак модели школы выглядят вдохновляюще оптимистично.
5. Тематика литературы для юношества, young adults, сегодня расширилась. Помимо романтического героизма теперь это и осмысление травмы, и гендерные проблемы, и разнообразные документальные нарративы, и множество фэнтези, разумеется. Но увлечение познанием, насколько мне известно, затухает, новых «Магистров рассеянных наук» и «Приключений Карика и Вали» не появилось. А жаль.
И даже не жаль, а ужасно, что размывается граница между знаниями и суевериями, читатели лишаются критериев верификации знания. Но это отдельная тема.
6. Мне легче ответить, какие темы остаются актуальными или становятся актуальными для меня, поднимаются со дна памяти ко мне сегодняшней.
Устаревшей казалась коммунистическая риторика совсем ранних произведений, но она была устаревшей уже в 70-е. С развитием интернета (уходом человечества во внутренние коммуникации), казалось, ушла на второй план тема освоения иных планет, однако она возвращается с космическими проектами Маска и др.
Что же до неприемлемости, Стругацкие ведь не учебник марксизма-ленинизма, они не выдавали свои мысли за единственно верные, даже не Платон, через диалоги подводящий к исключительной истине. Кто прав, Перец или Кандид? Воронин? Банев? Да читайте на здоровье, думайте.
С женскими персонажами у Стругацких, конечно, сложно. Но такова уж роль женского персонажа почти во всех волшебных сказках: пассивное ожидание, награда герою. В лучшем случае у Стругацких появляется образованная, умная воспитательница («Жук в муравейнике») или «почти такая же как мы», тоже на звездолете летает и в НИИЧАВО трудится, на подсобных ролях, разумеется.
Однажды в текстах проглянуло насилие по отношению к женщине (Майя Глумова рассказывает, что Лев Абалкин колотил ее, она была «его вещью»), причем ни саму женщину, ни прочих персонажей это, похоже, не беспокоит — это их внутренние дела, у каждого свои странности. Здесь даже не столько физическое насилие, сколько моральное подчинение, и оно выглядит странным, не характерным для прекрасного мира коммунистических связей.
А в случаях, если героини играют решающие роли, то в абсурдном плане (обе части «Улитки на склоне»). Победа феминизма (в совокупности с партеногенезом) оказывается столь же чужда человечеству, как и появление homo ludens, людей с третьей сигнальной системой. Мужчинам остается только смириться (и вымереть).
Но пожалуйста — Подруги не таковы? Можно обсудить, каковы, и что же теперь делать человечеству (оставшемуся на обочине мужскому большинству). Опять получается не «неприемлемость», а отправная точка для дискуссии.
Отсюда: www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2020_8/Content/P... . Спасибо всем за помощь в выдирании текста!






 . Такую в "Понедельнике" носил грубоватый Корнеев
. Такую в "Понедельнике" носил грубоватый Корнеев