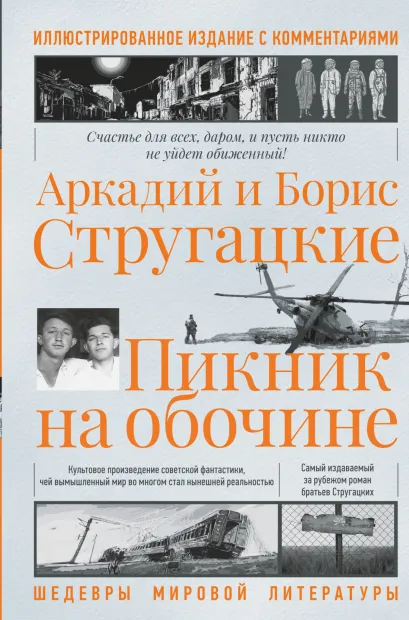Отсюда: www.rusf.ru/abs/beseda92.htm
Расшифровку подготовили Илья СИМАНОВСКИЙ, Татьяна ЕРЕМЕЕВА, Евгений СМИРНОВ, Светлана МИРОНОВА
Выложено с любезного разрешения Марианны ЛУРЬЕ, Елены ЖИТИНСКОЙ и Андрея СТРУГАЦКОГО
БОРИС СТРУГАЦКИЙ И АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ
БЕСЕДУЮТ С САМУИЛОМ ЛУРЬЕ (1992 г.)
Самуил Лурье: – И ещё я хочу заметить по поводу слов Саши Житинского. Он неосторожно сказал (и нас может не понять зритель): «Рукопись повести „Лестница” лежала в столе». Можно так подумать, что Житинский, подобно Гоголю, написав повесть «Лестница», положил её в стол и стал ждать, пока она отлежится и сделается ещё лучше. Нет! Она же лежала не у вас в столе, она лежала в столах редакторов, она лежала под подушками ваших друзей. То есть она как бы бродила, она как бы существовала и дарила людям... Она переходила, как некоторый квант, сгусток такой вот свободы, она так ходила от человека к человеку.
Александр Житинский: – Да. Самое удивительное, что я буквально этим летом в Швеции убедился, что это было именно так. Я нашёл этому документальное подтверждение. В доме одного моего шведского друга я обнаружил несколько русских книг, и среди них была книга Мальцева «Вольная русская литература». Я её никогда не видел.
Самуил Лурье: – Я тоже.
Александр Житинский: – Обзор «Вольная русская литература» с пятьдесят пятого по семьдесят пятый год. И там, в именном указателе авторов, которые обозреваются, я нашёл фамилию Жилинский. Меня это заинтересовало, я открыл рукопись на этой странице. И я увидел, что он пересказывает роман, абсурдный роман некоего Жилинского, ходящий в самиздате под названием «Лестница».
Самуил Лурье: – Могла быть опечатка.
Борис Стругацкий: – Да, опечатка в рукописи.
Александр Житинский: – То есть, видимо, он читал это. Может быть, он забыл имя, перепутал фамилию, но он довольно правильно излагает сюжет. Наряду с разными авторами: Амальриком, с Солженицыным и прочими... Короче говоря, она попала туда. Я не знал об этом упоминании.
Самуил Лурье: – Но в ГБ знали, конечно.
Александр Житинский: – В ГБ знали, и я, сопоставив даты, вспомнил, что...
Самуил Лурье: – Что в этот момент вам стало труднее жить.
Александр Житинский: – ...что года два меня не печатали.
Самуил Лурье: – Очень знакомо.
Александр Житинский: – <Как сказал> Борис Натанович, «автор писал правду, но не всю правду»...
Борис Стругацкий: – «Только то, что думает, но не все, что думает».
Александр Житинский: – ...поэтому вставал вопрос о выборе темы и жанра таких, чтобы сказать максимально всё. Чтобы всё другое, что ты сказал, уже не относилось бы к этой теме. Ну, допустим, если бы я хотел писать, там, о жизни партийных верхов... ну, понятно, сама тема, если ты пишешь свободно... ясно. То есть, выбирались какие-то темы, где можно было быть свободным, и где сама тема не требовала... Хотя жизнь такова, что это почти не удавалось.
Борис Стругацкий: – Конечно, Саша. Это практически невозможно. Потому что как только ты начинаешь, как только ты распускаешься над листком бумаги, тебя сразу заносит в абсолютно запретные темы. Ты можешь писать о любви старика к молоденькой девушке, там действие происходит, может быть, чёрт побери, даже до революции... И, тем не менее, обязательно у тебя появятся там какие-нибудь тайные агенты и тебе станет неинтересно, что девушка – просто юная девушка, а надо будет, чтобы она была народоволкой... И так далее. То есть у нас психология была построена таким образом, что заносы были неизбежны. И это была, конечно, специальная, довольно неприятная и глупая работа, отсекновение вот этих вот невозможных вещей.
Самуил Лурье: – Нет, это конечно, но дело в том, что вы... Я даже не очень понимаю, о чём вы говорите, о какой осторожности, потому что оба эти романа «Потерянный дом» Житинского и «Град обреченный» Стругацких, на самом деле всё равно политические романы. Поскольку в нашей стране вообще невозможно было написать неполитический роман, правдивый роман неполитический нельзя было написать. Они политические, и философские, и авантюрные, и какие угодно. И вот с этим связан мой следующий вопрос.
Их объединяет, эти два очень разных романа, то, что в том и в другом проводится некий социальный эксперимент. Сам роман представляет собой социальный эксперимент, суть которого я бы сформулировал так: если в романе Житинского «Потерянный дом», последний раз в социалистической системе выясняются возможности общества создать для людей достойную жизнь, то в романе Стругацких «Град обреченный» выясняются возможности людей построить достойное их общество. То есть, на разных уровнях решается эта задача. Может быть, я её формулирую неправильно, но всё-таки речь идёт о социальном эксперименте в том и в другом случае. И меня, опять-таки, интересует вот этот переход от свободы к надежде, и тот процент иллюзий, которые сохранялись у авторов этих двух произведений. Потому что сегодня они уже читаются немножко по-другому. Сегодня роман Житинского «Потерянный дом» читается как очень искреннее, интимное, если угодно, проникновенное прощание с иллюзией социализма, так бы я сказал. А роман Стругацких всё же воспринимается таким образом, как будто этой иллюзии у них и не было никогда. И это такое даже не то что надгробное слово, а реквием, написанный через много лет после того, как исчез последний проблеск социализма. Вот так. И вместе с тем это романы близкие друг к другу по времени. Мне хотелось бы знать: ставя этот социальный эксперимент, рассчитывали ли вы на то, что строй, который послужил материалом для этих метафор, может быть видоизменён? То есть, была ли у вас политическая надежда, когда вы писали эти политические романы?
Борис Стругацкий: – Ну, что, Саша, вы первый?
Александр Житинский: – Нет, я не надеялся, что при моей жизни я что-то увижу другое. То есть я понимал, что история как-то всё-таки развивается, что это не может быть бесконечно, но я думал, что моей жизни не хватит на то, чтобы увидеть какие-то перемены.
Самуил Лурье: – Но ведь такая тоска в вашем романе по истинно человеческим отношениям!
Александр Житинский: – Да, может быть, какая-то надежда на такую, ну, какую-нибудь небольшую либерализацию, маленькую либерализацию, но не более того, пожалуй.
Самуил Лурье: – То есть вам скорее хотелось поделиться этой тоской, и некоторым идеалом, который всё равно запрятан в глубине каждого художественного произведения?
Александр Житинский: – Да. Фактически, я для себя исследовал собственное отношение к этому идеальному коммунизму на примере своего героя. И, потому что это было идеальное отношение к коммунизму, так сказать... Всё это было давно, развенчание проходило очень постепенно, и кончилось вот совсем недавно. Но, тем не менее, когда я дописался до того – я не знал, это не было планово – когда я дописался до того, что герой мой, который строил в детстве из спичек дворец коммунизма, как архитектор (он архитектор у меня)... И когда он спустя много лет эту детскую игрушку нашёл, уже довольно помятым гражданином, уже потрёпанным жизнью, он сжигает этот дворец коммунизма. И это финальная точка романа. И это было прощание его с иллюзией. Видимо, и моё тоже.
Самуил Лурье: – А что скажет Борис Натанович?
Борис Стругацкий: – Вы знаете, Саня, вообще-то «Град обреченный» – это роман о крахе всех иллюзий, а не только социалистических или коммунистических. Это даже не столько социальный эксперимент, сколько эксперимент психологический, что ли. Ибо это была попытка двух людей, тогда еще сравнительно молодых...
Самуил Лурье: – Вы имеете в виду Аркадия...
Борис Стругацкий: – Аркадия Стругацкого и Бориса Стругацкого. Это была попытка людей, которые начинали жизнь как отпетые коммунисты – не просто коммунисты (Тольятти тоже был коммунистом) – это были коммунисты-сталинисты, то есть, люди готовые...
Самуил Лурье: – В это невозможно поверить!
Борис Стругацкий: – Да, в это я сам сейчас с трудом верю. Это были два типичных героя оруэлловского романа. У которых doublethink – двоемыслие – было отработано идеально. Ибо двоемыслие, как известно, это способность сделать так, чтобы две противоречащие друг другу идеи никогда не встречались в сознании. А мы всю жизнь носили в сознании одновременно тот факт, что органы не ошибаются, и тот факт, что наш дядя, коммунист с дореволюционным стажем, расстрелян в 37-м году, а отец исключен из партии в 37-м году, – тоже большевик с 16-го года. И вот надо было как-то так нести, идти по жизни, чтобы эти две мысли приходили в голову только порознь. Сегодня я думаю о дяде и отце – о том, какие это были хорошие люди. Потом эти мысли куда-то вынимаются и вставляются другие мысли – о том, что КГБ, конечно, не ошибается и если арестовали врачей-вредителей, то, наверное, там что-то было. «Им виднее». И вот эти два человека, перейдя через ХХ съезд, XXII съезд, встречу Хрущёва с художниками в Манеже, свержение Хрущёва, Чехословакию в 68-м году...
Самумл Лурье: – Когда вы начали этот роман...
Борис Стругацкий: – Задумали... наконец, приходят к такому состоянию, когда они видят: социализм – дерьмо, коммунизм – строй очень хороший, но с этими мурлами, с этими жлобами, которые управляют нами и которые непрерывно пополняют себя, свои ряды, с ними ни о каком коммунизме речи быть не может, это ясно совершенно.
Капитализм... В капитализме тоже масса вещей, которые нам отвратительны. Это теория гедонизма, это теория, что жить надо для того, чтобы получать только удовольствие. Для нас, молодых тогда, здоровых людей, эта идея казалась неприятной. Нам казалось (мы же всё-таки оставались в глубине души большевиками) – нам казалось, что человек должен жить, сжигая себя, как сердце Данко. Понимаете? То есть создавалась полностью бесперспективная картина. И вот, мы написали роман о том, как человек нашего типа, пройдя через воду, медные трубы, через все общественные формации, повисает в воздухе точно так же, как мы сами повисли в воздухе, потому что мы перестали понимать, к чему должно стремиться человечество. Мы перестали это понимать к середине семидесятых годов. Вот о чём роман. Это реквием по всем социальным утопиям вообще – будь то утопии социалистические, коммунистические, капиталистические – какие угодно. Вот о чём это написано и, как вы, может быть, помните, там мы пытаемся выдвинуть какую-то контр-идею – цель существования человечества, лежащую вне социальных проблем, вне политики, вне социального устройства, вне проблем материального производства, распределения благ и так далее, и так далее. Идею храма культуры. Как бы развивая метафору, что человечество живёт, строя храм культуры, как микроскопические ракообразные живут, строя коралловый риф, и не понимая, что они создают.
Самуил Лурье: – Другими словами, вы выдвинули такую теорию, что если мы не знаем, зачем всё это было, то, может быть, это кому-то всё-таки было нужно. Может быть, какому-то даже другому разуму.
Борис Стругацкий: – Может быть. Хотя мы так конкретно никогда не ставили это вопрос, потому что это была бы фантастика второго порядка, которую я не люблю.
Самуил Лурье: – Но кто-то же включает Солнце в вашем романе. Включает и выключает...
Борис Стругацкий: – Это просто экспериментаторы. У них свои задачи. Они совершенно нас не касаются. У них свои дела, они занимаются этим, нас это не касается. Мы выясняем свои проблемы – как и для чего нам жить дальше. А у них какие-то свои, нас это не интересует. Это чистая условность. Такая же условность, как отсутствие четвертой стены на театральной сцене... Я забыл, о чем мы говорили (смеётся).
Самуил Лурье: – Мы говорили о том, с какой дозой надежды...
Борис Стругацкий: – Ах, да. Что касается надежды: уже к этому времени – середине семидесятых – мы оба были абсолютно убеждены в том, что умрём в этом топком вонючем болоте. Что ничего другого никогда мы уже не увидим. Дети наши – может быть, хотя вряд ли. Но уж мы-то точно не увидим ничего, кроме этих портретов, бесконечных Звёзд Героев, этих гнусных лозунгов и этой отвратительной, каждодневной, осточертевшей лжи, которая пропитала всё. Всё! Никакого выхода я не видел. То есть, рассуждая холодно и здраво, я понимал, что это общество не может существовать в реальном мире – оно могло бы существовать вечно, если бы вся Земля принадлежала бы господину Брежневу. Но, поскольку существуют другие страны, это общество обязательно будет гнить, разваливаться, отставать безнадёжно – от Америки мы отстаём на 15 лет, а в области теории информации, кибернетики отстали навсегда... И это рано или поздно должно чем-то кончиться. Чем? Ну, естественно, кровавым взрывом. Естественно, наступит такой момент, когда более энергичные, более динамичные соседи найдут нас достаточно слабыми для того, чтобы разделить этот воняющий пирог на части. Но эта перспектива была отвратительна, потому что нам казалось, что пусть уж <лучше> будет зловонное болото, чем кровавое болото. И поэтому мы молили Бога только о том, чтобы эта неизбежная концовка оттянулась в возможно далёкое будущее. И вот, к нашему всеобщему изумлению, вдруг настаёт 85-й – 87-й год...
Самуил Лурье: – Подождите, мы до этого ещё не дошли. Я хочу сказать, что если бы кто-нибудь послушал наш разговор со стороны, не читая этих двух романов, он подумал бы, наверное, что речь идет о книгах совершенно мрачных, безнадёжных, несущих огромный политический заряд, но предназначенных для каких-то скептических умов, не умеющих улыбаться. А между тем, и та, и другая книга – и «Потерянный дом» и «Град обреченный» – это, помимо всего прочего, очень весёлые книги. В глазах читателя они смешные. Вообще говоря, всем известно, что Стругацкие – мастера сатиры и юмора. Хотя это всем осточертевшее словосочетание, но вы же очень смешные писатели. И Житинский писатель очень весёлый и смешной в глазах читателя.
Борис Стругацкий: – Это то, что объединяет Житинского со Стругацкими. Это общее.
Самуил Лурье: – И вот я хочу сказать, что, наверное, это не случайно и вытекает из того, о чём мы говорим. Потому что даже при максимальной безнадёжности свобода без иронии, без юмора, без взгляда сверху и со стороны в неожиданном ракурсе, по-видимому, невозможна. И в этом смысле, наверное, не случайно, что именно в нашей стране может возникнуть такая литература: одновременно серьёзная и очень весёлая. Как это связано? Видите ли вы сами некоторую необходимость писать весело – ведь это же не просто проявление темперамента?
Борис Стругацкий: – Интересно, что Саша скажет...
Александр Житинский: – Нет, не темперамента, наверное. Я всегда был согласен... Кажется, Чехов сказал, что юмор – признак ума. Я не верю, что человек умный может не воспринимать юмора...
Самуил Лурье: – Мне тоже так кажется. Замечательный текст всегда остроумен.
Александр Житинский: – ...не быть смешным. Вот что самое интересное: юмор – это осознание себя как очень смешного человека, часто очень нелепого. И когда ты так смотришь на себя, это позволяет тебе так же смотреть на других. Есть люди, которые очень подмечают смешное в других, но скажи им, что они сами смешные безумно – они, наверное, обидятся. Я просто не представляю другого способа общения и с людьми, и с читателями – иронично, смягчать иронией, но при этом всегда помня о том, что я остаюсь таким же смешным в глазах другого умного человека, как и он в моих глазах.
Самуил Лурье: – То есть смех, наверное, необходимо входит в свободу ума. Это её проявление.
Александр Житинский: – Обязательно. Конечно. Для меня – непременно.
Борис Стругацкий: – Я с Сашей абсолютно согласен с той только разницей, что мне кажется, что он очень глубоко копает. Я как раз более поддержал бы вашу, Саня, такую совершенно поверхностную и очевидную позицию, что в каждом из нас заключён вот этот вот смеющийся чёртик. Мы такие, мы родились такими. Ведь есть люди, которые всегда стоят внутренне по стойке смирно. Люди, которые считают, что улыбаться грешно, люди, которые всё делят на святые вещи и вещи бытовые.
Самуил Лурье: – Позволю себе заметить, что есть государства, которые так считают.
Борис Стругацкий: – Государствам сам Бог так велел, потому что для каждого государства существуют такие понятия как знамя, орден, отечество, патриот. И ещё множество слов, которые пишутся с большой буквы. В нашем государстве эти слова были определены как абсолютно хорошие и их нельзя было применять, скажем, к фашистским захватчикам. Не мог быть фашист патриотом. Он не мог быть героем. Ну, в лучшем случае, это был отчаянный фанатик. С государством-то как раз всё ясно, но вот люди – они ведь рождаются и живут в определённых условиях. Их окружают другие люди, друзья... И, в конце концов, если в них есть этот смеющийся чёртик, он всегда у них прорывается. О каких бы серьёзных вещах вы бы не говорили, Саня, не писали, вы обязательно найдёте что-то смешное в неожиданном повороте мысли, в сочетании слов...
Самуил Лурье: – Иначе неинтересно.
Борис Стругацкий: – Иначе нельзя! Вот ведь в чём хохма. Вы правы в том смысле, что мы пишем так потому, что иначе не умеем писать. И если бы я даже поставил перед собой задачу написать какое-то абсолютно возвышенное произведение, написанное только словами с большой буквы – у меня бы просто не получилось это. Хотя у некоторых людей получается. Очевидно, это связано именно с темпераментом.
Самуил Лурье: – Я говорил в начале о том, что, готовясь к этому разговору, к своему удивлению обнаружил, что между вами много общего. И наш разговор выводит меня, совершенно естественно, к ещё одному призраку, который вас объединяет – призраку некоторого вашего общего литературного предка. Потому что мы говорили о том, что значит писать «в стол». Мы говорили о том, что значит писать без надежды. И мы говорили о том, что нельзя не писать при этом смешно. И если бы мы говорили при этом не о вас двоих, а о каком-нибудь третьем писателе, то непременно всплыло бы имя Булгакова. Который, между прочим, фигурирует и в вашей повести «Хромая судьба» и в вашем романе «Потерянный дом», как некоторое мерило литературной свободы, литературной честности и таланта. Я в связи с этим хотел спросить, что для каждого из вас значит Булгаков.
Александр Житинский: – С самого начала, как только я начал писать прозу – а это случилось довольно поздно... относительно... я ряд лет жизни отдал стихам... После тридцати я начал писать прозу...
Самуил Лурье: – А вы, Борис Натанович?
Борис Стругацкий: – А что называется... Саша, вы до «Лестницы» писали что-нибудь?
Александр Житинский: – Нет. Это фактически первая...
Борис Стругацкий: – Первая вещь. Когда вы её примерно написали?
Александр Житинский: – В семьдесят первом – семьдесят втором.
Борис Стругацкий: – Так. Но это уже серьёзная вещь. Первая наша серьёзная вещь была написана году в пятьдесят шестом – пятьдесят седьмом.
Самуил Лурье: – «Стажеры»?
Борис Стругацкий: – Нет. «Страна багровых туч». Это была, конечно, смешная вещь, но по тем временам это было что-то серьёзное.
Самуил Лурье: – Одна из самых высоких утопий, какие...
Александр Житинский: – Но к тому моменту я уже успел прочитать «Мастера и Маргариту», и Булгаков, конечно, сразу же сделался в силу этих обстоятельств – юмора в том числе – пожалуй, и остался моим любимым писателем. Духовный отец, если пользоваться выражениями с большой буквы. Я так вот его для себя и считаю, и держу, хотя понимаю, что, естественно, не может быть ни двойника... Это именно продолжение некой традиции, потому что, если говорить про чисто писательские вещи, то разница есть, и она довольно ощутима. Темперамент. Булгаков – более жёсткий и определённый и человек, и писатель, чем я. Меньше склонный к компромиссу, гораздо более бесстрашный. Конечно же. Но, тем не менее, всё-таки я достаточно сознательно и даже в этом романе нарочито, может быть, даже вводя Булгакова почти в персонажи... Там есть у меня синклит великих литераторов.
Самуил Лурье: – Замечательная сцена, где подвергается суду чуть ли не вся советская литература.
Александр Житинский: – Да. <Сцена>, которая, в общем-то, напрямую вытекает из бала Сатаны. Вот эта глава, она написана как аналог почти.
Самуил Лурье: – Я конкретизирую. Саша очень интересно ответил, но я, пока его слушал, не договорил своего вопроса. Существование Булгакова... Где-то он всё равно существует – всякий писатель, напечатавший свои книги, он существует, так же, как вы будете существовать всегда – я в этом абсолютно уверен. Вот его существование помогало вам жить своим примером? Ведь, в сущности, в судьбе чрезвычайно много общего. Мне очень дорога эта мысль, что писатель никогда не умирает до конца. Не новая мысль, но ужасно она меня греет и мне кажется, что Булгаков участвовал в вашей жизни как личность, как сущность, не просто как литературный предшественник или там стилистический пример. Можно ли так сказать?
Борис Стругацкий: – Я боюсь, что это слишком красивый образ, Саня. В каком-то смысле – да, конечно, это просто даже банально. Но если попытаться установить какое-то соответствие между образом, который вы нарисовали и реальным положением вещей, то всё будет не так просто. Я не могу сказать, что каждую минуту своей жизни я думаю о Булгакове и в каждый момент в творчестве, когда мне было трудно, я прибегал к нему, как любили у нас в своё время говорить. Этого нет. Я отношусь к сравнительно небольшой группе, как я знаю, читателей, которые лучшим и неописуемо прекрасным романом Булгакова считают не «Мастер и Маргарита», а «Театральный роман». И я даже думал, почему так происходит: вероятно, это происходит потому, что вот этот роман, герой его соединён со мной, с моей душой буквально тысячей нитей. Буквально всё, что говорит этот человек, всё, что думает он, все его способы восприятия мира, они перекликаются с моей душой так, как в молодости, когда влюблён: что бы ни говорила милая девушка, что бы она ни сказала, всё отзывается каким-то серебристым эхом.
Самуил Лурье: – Происходит какое-то уподобление одного человека другому, да.
Борис Стругацкий: – И вот такая, может быть, смешная немножко влюблённость к Максудову и к «Театральному роману» есть у меня. Я вот сейчас вспомнил, Саша, у вас, в вашем романе есть прекрасный пассаж. Я, конечно, дословно его не помню, но смысл был в том, что любой советский человек способен быть литературным цензором. Потому что он совершенно точно знает: вот это можно, а это нельзя. На улице останови затрюханного какого-нибудь дядёчка и спроси: «Вот как ты считаешь, это можно в газете напечатать?» Он прочтет и скажет: «Не-е-ет, да ты что, нельзя!»
Самуил Лурье: – Это один из немногих случаев, когда действительно каждая кухарка научилась управлять государством.
Борис Стругацкий: – Это удивительно тонко Саша подметил. Но вспомните, как воспринимает Максудов бедствия, обрушившиеся на него, – чисто литературно-издательские бедствия. Ведь он же не верит, почему это нельзя печатать, так же как в это не верит автор в «Мастере и Маргарите». Эти люди не понимали, что они такого написали, что не должно и не может быть опубликовано. Вот эта вот гигантская дистанция между героями Булгакова, то есть героями двадцатых годов, людьми двадцатых годов и мной, человеком пятидесятых годов, она всегда потрясала. Какой страшный путь общество прошло, чтобы во всех людях вытравить представление о свободе литературы. Вот к этому мы опять возвращаемся.
Самуил Лурье: – Мы возвращаемся опять к свободе, то есть, к норме. К свободе как к норме.
Борис Стругацкий: – То есть к норме. Поэтому, вы знаете, для меня Булгаков – это прежде всего, между прочим, писатель с прозрачнейшим и неповторимым русским языком.
Продолжение следует