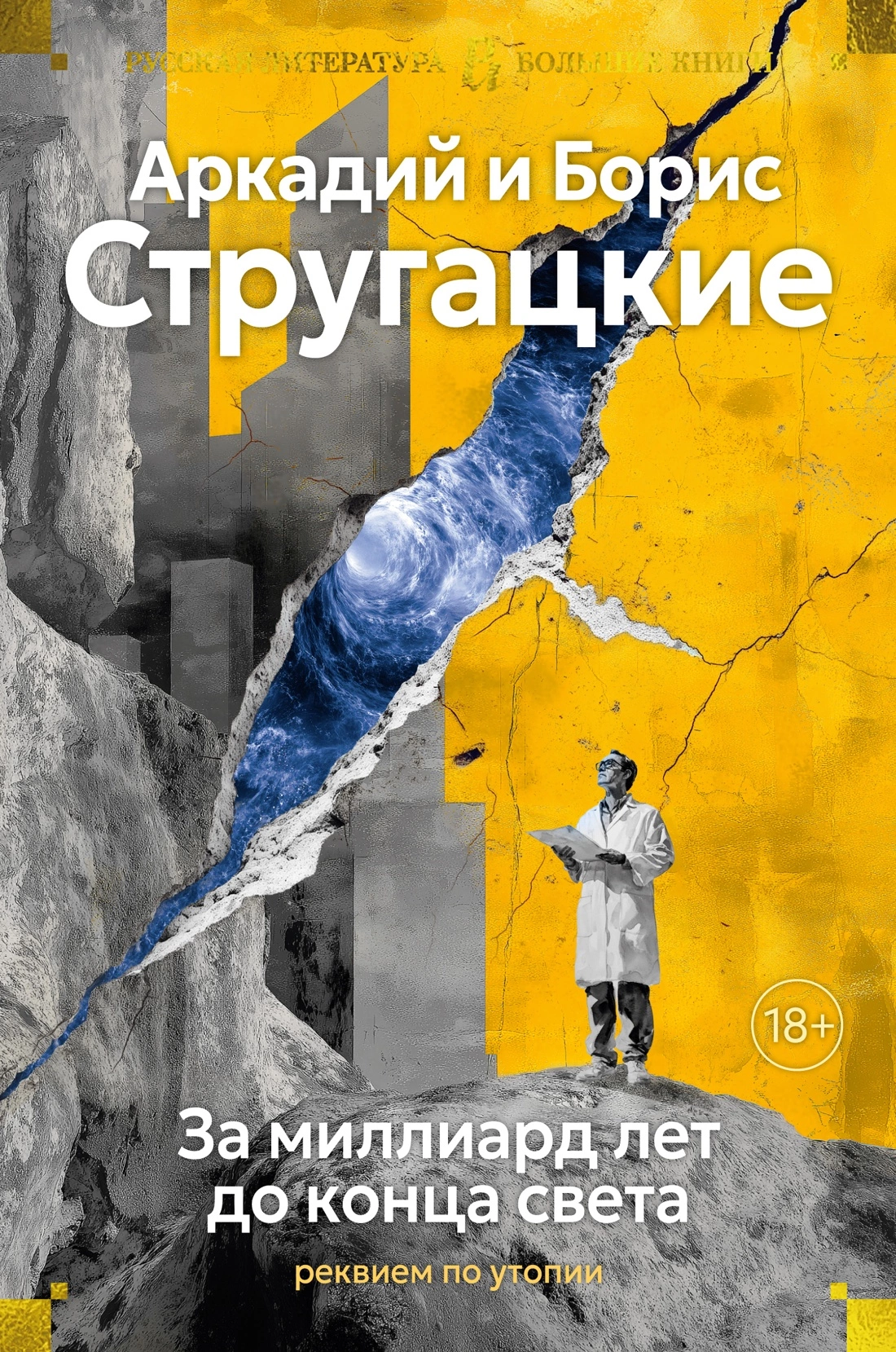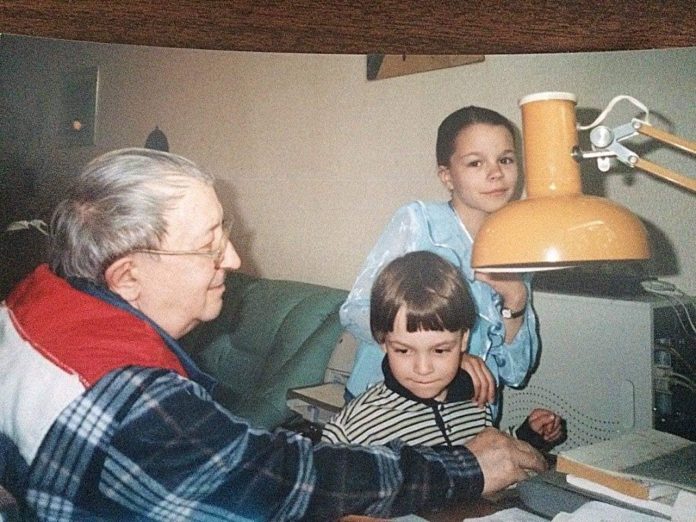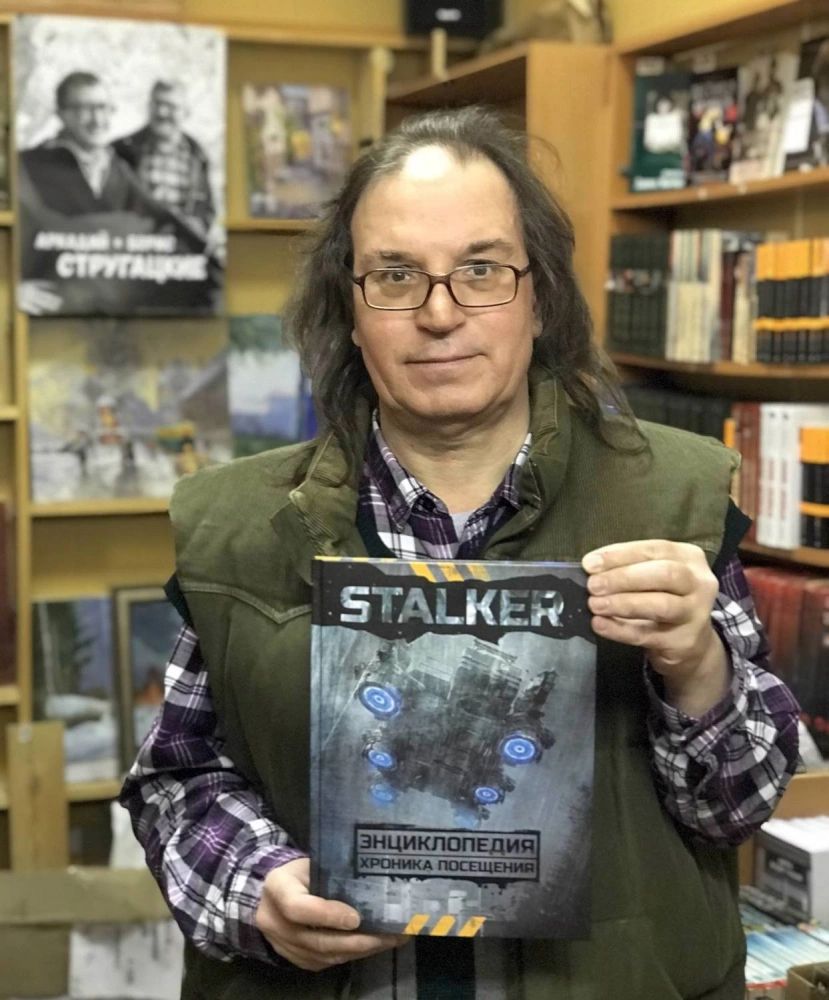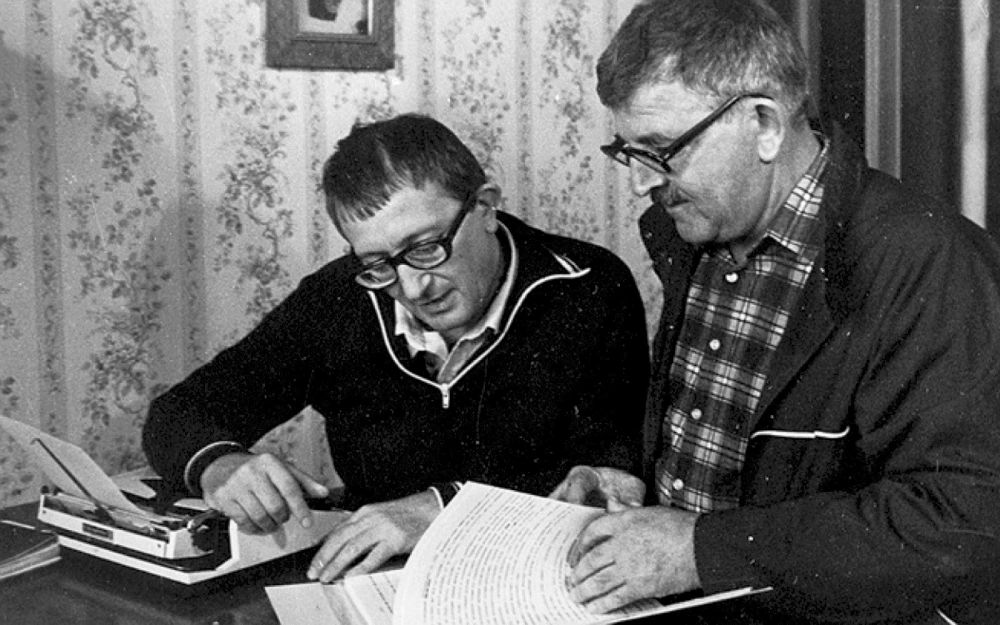А тем временем в той же серии готовится еще один том - "За миллиард лет до конца света. Реквием по утопии".
Содержание:
Второе нашествие марсиан
За миллиард лет до конца света
Град обреченный
Хромая судьба
Отягощенные злом, или Сорок лет спустя.
Странны и подборка, и название. А уж в сочетании...
И метка "18+"...