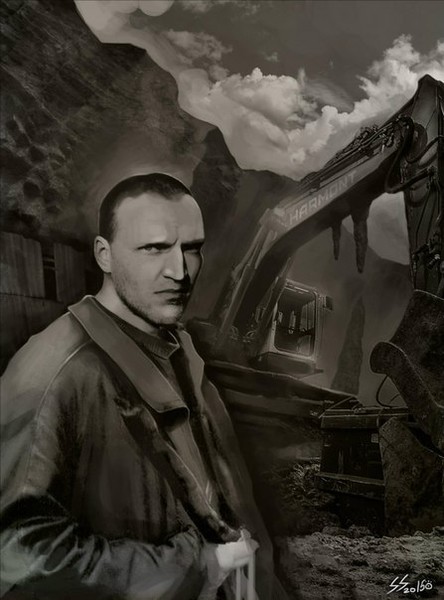«Октябрь» 2015, №7
ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА
Дмитрий ЗАНЕРВ
Легко быть интеллигентом
Дмитрий Занерв родился и живет в Одессе. Окончил философский факультет ОНУ им. Мечникова. Пишет философские и критические произведения. Публиковался в изданиях «Русский журнал», «Арт-подготовка», «Личности» и др. Автор книги эссе «Человеки» (2012). Призер фестиваля «Гоголеум».
Будущее как «тщательно обезвреженное настоящее»
Следующим пиком творчества братьев стал год 1971-й, год «Пикника на обочине». Пожалуй, наиболее известного и яркого сочинения Стругацких. По резонансу в советской и постсоветской культуре «Пикник» можно смело считать самой влиятельной книгой конца XX века. Тут и множество «кодовых слов» (сталкер, Зона, Пришествие, Машина желаний), вошедших в современный лексикон, и небывалая свобода и уверенность в обращении с «чужим» материалом (жизнь и мировоззрение западного человека). Сюжет лучшего фильма Тарковского (о чем ниже). Жуткое предвосхищение Чернобыля. Но главное – прекрасная литература, редкое для современности чувство формы. Надо откровенно сказать, что ничего более сильного в художественном отношении Стругацкие так и не написали, что бы они сами ни думали по этому поводу.
читать дальше
Поскольку как раз «Пикник» стал основой для лучшего фильма Андрея Тарковского, уместно сказать кое-что об экранизациях Стругацких. Все эти экранизации были, в общем и целом, неудачны, даже в исполнении таких классиков, как Тарковский и Алексей Герман. Причины подобной закономерности явно заслуживают подробного исследования. Достаточно сказать, что для «Сталкера» братья вынуждены были написать целых девять вариантов сценария, затем почти готовый фильм был загублен при проявке пленки и его сняли фактически дважды. В результате получился визуальный шедевр, не имеющий, однако, почти никакого отношения ни к тексту первоисточника, ни (что гораздо хуже) к общей идее, в нем содержавшейся. А жаль, ведь натужное христианство «Сталкера» никак не могло заменить многослойную и непростую идеологию книги.
Про более поздние попытки перенесения текстов братьев на экран лучше и не вспоминать: о мертворожденном следует молчать. Исключение составляет такой же, как «Сталкер», загадочный и неоднозначный фильм «Трудно быть богом», последняя работа Германа. Интрига заключается в том, что именно Герман мог стать, еще в 1968 году, первым киноистолкователем творчества Стругацких, если бы уже написанный и одобренный авторами сценарий тогда (в разгар подавления «Пражской весны») не исчез. В 1990-е Герман его отыскал и положил в основу новой попытки. Как и следовало ожидать, готовый фильм больше говорит о старых демонах великого режиссера, чем о тех смыслах, что вкладывали в него писатели.
Последний и, скорее, курьезный случай. По выходе в январе 2010 года в мировой прокат блокбастера «Аватар» Дж. Кэмерона многие фанаты усмотрели в его сюжете и некоторых художественных решениях плагиат из цикла романов о Мире Полудня. Судить о том, что стало источником вдохновения американца, видимо, малопродуктивно, но Борис Натанович выразился лапидарно: «Позаимствовали нашу идею. Это очень неприятно. Но не судиться же мне с ними?»
Возвращаясь от кино к литературе, следует сказать, что для понимания «тайны» писателей стоит серьезно отнестись к важному разделению, которое они сами проводили в своих сочинениях: «приключения тела» и «приключения духа». Первое относится к «дюмистскому» приключенческому сюжету, множеству смачных диалогов, обилию прямого физического действия (погонь, стрельбы, насилия), концентрированному юмору, четким финалам с расстановкой точек над i. Второе – «тексты идей», амбициозное, с формалистскими изысками повествование, неразрешимые дилеммы внутри героев, сюжеты из области альтернативной истории, туманные концы и обилие «философии». В идеале, который был достигнут братьями всего несколько раз («Улитка», «Гадкие лебеди», «Пикник»), обе тенденции должны были сливаться до неразличимости. На практике, увы, легче развести «стругацкиану» на два неравных потока.
Дело в том, что после вершин, взятых в середине и конце 60-х годов, писатели в силу причин, о которых можно лишь догадываться, сделали весьма странный выбор: попытались выйти из фантастического жанра ради расширения своего творческого диапазона и по дороге утеряли тот неповторимый рецепт интеллектуальной прозы, что составлял их главное достоинство. Возможно, то была попытка вывернуться из-под давления цензуры, поскольку Стругацкие вовсе не были в восторге от своей вынужденной изоляции от читателей (а какой писатель мог бы выдержать такое состояние?). Возможно, переоценив свои и в самом деле большие возможности, писатели замахнулись на задачи, им заведомо недоступные. Каков бы ни был ответ на вопрос о причинах, следствие было печальным: примерно в середине 1970-х братья выдохлись как писатели, перешли некий водораздел, точку невозврата таланта. (Что характерно, сами они так не считали: «На мой взгляд, мы со временем стали писать лучше: точнее, разнообразнее, умнее, если угодно. А главное, мы избавились от многих иллюзий. И расплатились за это утратой оптимизма».) Но факты неумолимы: все их труды после «Пикника» были ниже созданного прежде. Это относится к таким претенциозным, «вязким», плохо построенным и неубедительно развитым книгам, как «Град обреченный», «За миллиард лет до конца света», «Хромая судьба», сценарий для фильма «Сталкер» и особенно «Отягощенные злом», которые недаром оказались последней крупной и притом худшей работой Стругацких. В них всех очевидна тенденция окончательно освободиться от научно-фантастической атрибутики и перейти к «философствующим», даже морализирующим романам в духе толстовского «Воскресения». Что делать Стругацким было категорически противопоказано, ибо ни учителями нравственности, ни социологами, ни философами они не были.
Попытка к объяснению
Они были интеллигентами. Интелями, как сказали бы в мире «Хищных вещей века». Значит, людьми в значительной степени разочарованными, утратившими веру. Кроме прочего, веру в человека, в самих себя. Замкнутыми в рамки «приличного» мировоззрения, слишком отдаленными от так называемого «народа». Развитие их мысли остановилось как раз в конце 1960-х, когда все ценности, оценки и доказательства были приняты окончательно, а затем лишь прикладывались к новым сюжетным конструкциям. Иными словами, падение Стругацких-писателей было вызвано «сужением» духа Стругацких-личностей. Чтобы остаться на вершине художественной формы, писатель должен постоянно меняться, сбрасывать чешую прошлого, даже если это прошлое добыто слишком большой ценой. Братья начали «закукливаться» уже в 1974 году, после «жесткого и крайне неприятного контакта с КГБ», ставшего толчком к написанию «За миллиард лет» – произведения, хотя и весьма путанно, но все же делающего окончательный выбор в пользу принятия правил советской игры. «Жук в муравейнике», который по контрасту с многими прежними книгами почти не имел проблем с цензурой, оказался удивительным воскрешением оптимистических «технических» повестей начала 1960-х, да еще в оболочке шпионского детектива. В это время окончательно формируется утопическая идеология Мира Полудня, недостижимость которого для Стругацких очевидна, но который слишком прекрасен, чтобы полностью от него отказаться. Сюда относится смутная Теория Вертикального Прогресса, очень напоминающая модные сегодня тезисы трансгуманизма, и Великая Теория Воспитания, должная «кардинально изменить человеческую историю, прервать цепь времен и роковую последовательность повторений “отцов в детях”». В наиболее концентрированной форме обе эти теории представлены в последнем крупном совместном произведении «Отягощенные злом». Которое, как ни открещивались от подобных сравнений авторы, неизменно вызывает сравнения с «Мастером и Маргаритой», причем весьма не в свою пользу.
В чем же проблема мировоззрения Стругацких? Главным образом в том, что, занимаясь теоретизированием по наитию, исходя из весьма сомнительных представлений о философии («Я вообще равнодушен к философии. Она либо беспробудно скучна, ни к чему не применима и неудобоварима, либо завлекательна, но легковесна и похожа на фантастический роман»), они в итоге все же создали свою любительскую метафизику человека. Она сводилась к тому, что человек вынужден всю жизнь бороться с «обезьяной внутри», этот яркий образ постоянно возникает в поздних текстах писателей. В этой борьбе он должен опираться исключительно на (научный) разум – ни религия, ни философия, ни народные традиции не помогут. «В Мире Полудня (религиозные. – Д.З.) задачи будут решаться другими средствами, грубо говоря – медикаментозными». Не поможет даже искусство. Удивительным образом любимцы советской интеллигенции признавались в полном равнодушии к этому бесконечному океану: «Тема природы мне совершенно чужда. Тема музыки. Тема живописи. Джазом я, действительно, увлекался всерьез. Любил слушать и классику. Даже в филармонию хаживал. Потом (годам к тридцати) все это прошло. Почему? Не знаю, честное слово. Пропал интерес. Как к гимнастике. Или – преферансу, например». Каковы сравнения!
Теория воспитания Стругацких еще более любопытна. Вкратце если, она сводилась к тому, что такое ответственное дело, как воспитание детей, нельзя доверять родителям. Довод: вы же идете к врачу, когда заболеваете, почему не обратиться к профессиональным педагогам, когда речь идет о гораздо более важном вопросе – духовном созревании человека? Родители, видите ли, превращают детей в точную копию самих себя, и это корень всех социальных зол. Очевидно, в своем равнодушии к «скучной» философии, братья не заметили, как начали пересказывать своими словами политическую теорию Платона! Но есть и другая причина столь странных умозаключений: Стругацкие никогда не были исследователями человеческой души. Ни в одной из их книг нельзя найти глубокого, оригинального решения вечного вопроса «что есть человек?». Они хорошо знали общество, в котором жили, видели его тогдашние и даже будущие пороки («при свободных демократических выборах – большинство всегда за сволочь») и предлагали пути улучшения. Но вот отдельный конкретный человек так и не привлек к себе необходимого внимания. «Я не мог бы писать о любви. То есть такой роман, который был бы ТОЛЬКО о любви и больше ни о чем. АБС никогда не понимали женщин».
За этим признанием явно виднеется первопричина определенной антропологической слепоты Стругацких: позднесоветский интеллигентизм. Сколько десятилетий и средств потратила советская власть на создание позитивного образа интеллигента как полезного (для народных масс) неудачника! В этом и заключался подвох: советская интеллигенция была, да и могла быть, только научно-технической. В ней, сохранившейся после длительных репрессий, изгнаний и грубой государственной селекции, почти не осталось людей универсального знания. Философов, мистиков, сердцеведов, художников (в смысле – обладателей чувства формы и чистой, внеклассовой, красоты), моральных авторитетов. Зато было «выпущено» (из недр системы лучшего в мире образования) немало физиков, химиков, математиков и филологов, которые попытались заменить, с заведомо негодными средствами, отсутствующие категории. В конце концов советские интеллигенты начали слишком уж серьезно относиться к самим себе, потеряли не только чувство бдительности к политическому обману, но и свою важнейшую добродетель – чувство юмора.
Стругацкие как нельзя лучше демонстрируют эту эпохальную тенденцию «призыва физиков в лирику». Они и писателями-то стали почти случайно, отметив позднее: «Совпадение обстоятельств определило наш успех в 60-х годах. Сегодня АБС, скорее всего, вообще не стали бы писателями, а остались бы прилежными читателями-энтузиастами. АНС стал бы, скорее всего, астрономом, а БНС – физиком – этим бы все и кончилось. Ради собственного удовольствия мы писать начинали, и длилось это удовольствие лет пять-семь от силы. Потом источники удовольствия иссякли, и писали мы, скорее, из чувства долга, а также потому, что более интересного способа зарабатывать на жизнь мы не знали». Редкое по откровенности заявление! Пока первый мощный импульс освобожденного от сталинской цензуры космического рационализма и оптимизма начала 1960-х годов сохранял свой «момент силы» в противовес общественной и культурной инерции, Стругацкие одерживали одну литературную победу за другой. Когда же, в начале 1970-х, былые мечты и надежды не только не оправдались, но и приняли искаженные, двусмысленные формы, они именно потому, что остались только интеллигентами, не став мыслителями или художниками чистого искусства, потеряли свой собственный секрет. Став профессионалами, они не удержали своего таланта, имевшего, как уже теперь становится ясно, исторические рамки. Сама смерть писателей – Аркадий скончался в Москве 12 октября 1991 года, Борис ушел из жизни 19 ноября 2012 в Санкт-Петербурге – стала также двойным подведением черты под эпохой несбывшихся ожиданий лучшей, но и самой ненадежной «прослойки» советского общества. Кредо этой прослойки, пусть и полушутливое, лучше всего зафиксировано в блестящем этюде 1964 года «Мыслит ли человек?»: «Я не удивился бы, если бы конечной целью Материи было создание вовсе не царя природы – человека, а наисовершеннейшего коньяка с ломтиком лимона, а человек в этом процессе играл чисто вспомогательную роль орудия созидания».
Творчество Стругацких развивалось как перемещение литературного фокуса с прямолинейной технической утопии коммунизма (ранние произведения до 1963 года) на политическую сказку («Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке»), к идеальному сочетанию сатиры на современность и футурологических видений («Трудно быть богом», «Хищные вещи века», «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди», «Второе нашествие марсиан»), затем все больше в виде уклонения в сторону реалистического романа-предупреждения или романа-осуждения («Обитаемый остров», «Малыш», «Пикник на обочине», «Отель “У погибшего альпиниста”», «За миллиард лет до конца света», «Град обреченный») и, наконец, как обращение к малоудачным морализаторским повествованиям о вечных проблемах выбора и общественного блага («Жук в муравейнике», «Хромая судьба», «Отягощенные злом»).
Чем-то в совокупности своих видовых авторских признаков братья Стругацкие напоминают братьев Гонкуров: они сходным образом стояли у истоков важнейшей революции в русской литературе середины XX века, успешного объединения «высокой» и «низкой», развлекательной прозы; сходны они также тем, как еще до, а особенно после смерти одного из братьев выяснилось, что сильные стороны каждого из них (увлекательность рассказа и остроумие у Аркадия, глубина поставленных проблем и сложность сюжетных линий с множеством намеков и умолчаний у Бориса) по одиночке «не работали» и потому сольное творчество обоих было сугубо неудачным.
Стругацкие были и остались советскими (то есть не европейскими) писателями. Их литература есть подробнейшая и глубочайшая самокритика советского человека вообще и советского писателя/ученого в частности. Это высшая точка шестидесятничества и его провал. Более того, творчество Стругацких – классическая форма интеллигентской литературы XX века, непревзойденная и, пожалуй, непревосходимая далее. Отсюда многие их особенности: страх перед женщиной и неспособность правдиво описывать любовь и семейные отношения (стыдливость интеля, “мой сынишка”), непонимание философии при постоянных попытках все же философствовать по-домашнему, странноватые вкусы в литературе (нелюбовь к Шекспиру, Тургеневу, чрезмерное восхваление прозы Пушкина и Алексея Толстого), позитивистски-ограниченные взгляды на религию и историю.
Братья Стругацкие представляют собой уникальный феномен культурного замещения, когда в условиях цензуры в области религии, политики и особенно философии, а также отсутствия выбора и доступа к мировому разнообразию идей и жанров сколько-нибудь талантливый советский интеллектуал становился “властителем дум”, формировавшим мировоззрение и ценностные предпочтения нескольких поколений читателей. Теперь, когда нет СССР и тотальной цензуры, когда переведены и изданы основные запретные плоды, становится ясно, что Стругацкие страшно переоценены, что они не были великими писателями – ни как мастера стиля, ни как мыслители или моралисты. В сравнении с Брэдбери они оказываются плохими художниками, в сравнении с Лемом – плохими философами. В конце концов, они были просто талантливыми советскими учеными, удачно перешедшими от естествознания к литературе. Вместе с падением советской цивилизации пали и их герои, их выводы. Сегодня их читают потому, что они по-прежнему остаются несравненными для нашей культурной ситуации диагностами, а также, и главным образом, потому, что на смену им пока никто не пришел.
@темы: «Волны гасят ветер», «Град обреченный», «Жук в муравейнике», «Далёкая Радуга», «За миллиард лет до конца света», Попытка к бегству, Улитка на склоне, Критика, Понедельник начинается в субботу, «Малыш», Сказка о Тройке, Отягощенные злом, «Пикник на обочине», «Страна багровых туч», Парень из преисподней, Второе нашествие марсиан, Шесть спичек, Мыслит ли человек?, Пепел Бикини, «Отель "У погибшего альпиниста"», «Трудно быть богом», «Об