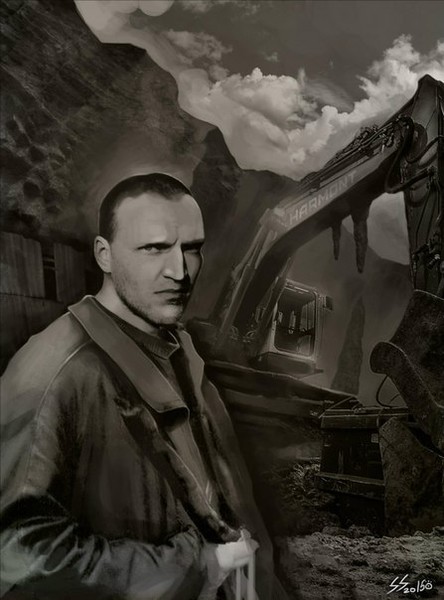«НЛО» 2007, №88
СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ: ИСТОРИЯ РЕЦЕПЦИИ
ИРИНА КАСПЭ
Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких?
ЭЗОПОВ КОМПЛЕКС
Кто-то из поклонников братьев Стругацких, запутавшись в античных именах, назвал язык патриархов советской фантастики “эдиповым”. Эта оговорка вряд ли вызовет интерес у психоаналитика, но и историку культуры не покажется неожиданной.
Начиная с середины 1980-х годов сомнительный термин “эзопов язык” употреблялся в отечественной публицистике настолько часто, что ближе к 1990-м почти превратился в диагноз. “…То, о чем раньше только намекалось, нынче говорится впрямую, в открытую. И иносказания уже “не звучат”. Эзопов язык недаром создан рабом”1, — утверждал семнадцать лет назад в посвященной Стругацким статье литератор Сергей Плеханов. Эзопов язык стремительно выходил из моды, что казалось достаточным основанием для вопроса: “Не был ли порожден интерес к так называемой социальной фантастике ее генетическим родством с идеологией застоя?”2 Легкость, с которой литература братьев Стругацких (“так называемая социальная фантастика”) редуцировалась здесь до иносказательного, эзопова сообщения о чем-то общеизвестном, свидетельствует о существовании длительной, многолетней интерпретативной традиции.
читать дальше
Вопреки прогнозам эта традиция вовсе не прервалась с отменой института цензуры — во всяком случае, она активно воспроизводится сейчас, и было бы спекулятивным упрощением пытаться объяснить этот факт новой актуальностью проблемы свободы слова. Чаще всего интерпретаторы Стругацких пытаются “расшифровать”, “декодировать” текст, выяснить, “что означают”, “что символизируют” те или иные “странные”, “фантастические” элементы повествования.
Конечно, в первую очередь под зашифрованным сообщением подразумевается развернутое идеологическое высказывание и даже политический манифест — инструменты дешифровки практически не модифицировались за последние тридцать лет, однако ее результаты кардинально изменились. По мере того, как процедура выявления (в негативном варианте — разоблачения) антитоталитарных и (более радикально) антисоветских подтекстов утрачивала популярность или начинала казаться самоочевидной, избыточной, обнаруживались новые ресурсы герменевтического чтения — поиск подтекстов прокоммунистических и антидиссидентских. Интернет-блоги предоставляют достаточно обширный материал для исследования подобных — как правило, конспирологических — способов интерпретации: разговор о Стругацких нередко оказывается одной из форм самоопределения, различения “своих” и “чужих”, декларации самых разнообразных идеологических приоритетов, от леворадикальных до консервативных. Характерно, что при этом завуалированные аллегории и подтексты ищутся преимущественно в тех произведениях, которые вплоть до политических перемен 1980-х не публиковались в Советском Союзе и распространялись исключительно в “тамиздатских” и “самиздатских” копиях — “Град Обреченный”, “Гадкие лебеди” (ср., к примеру, размышления в “Живом журнале” политолога Бориса Межуева: “Ясно, что “Град” представляет собой хорошо замаскированную апологию Советской тоталитарной власти, написанную уже не столько для либеральной (как “[Обитаемый] остров”), сколько для буржуазно-патриотической части диссидентского движения”3). Иными словами, классическая модель эзопова языка — с институтом цензуры (и, соответственно, самоцензуры) в центре — переворачивается, ее заменяют попытки обнаружить следы тайной апологии политического режима в текстах, для него же неприемлемых.
Впрочем, в некоторых случаях осведомленность о самом факте “зашифрованного”, “непрямого” высказывания, так или иначе ориентированного на институт советской цензуры, оказывается для поклонников Стругацких серьезной травмой — книга Бориса Стругацкого “Комментарии к пройденному” (2003) и его недавние интервью спровоцировали неподдельное читательское отчаяние:
Братья выучили не одно поколение думать <…> Согласно последующему разъяснению [Бориса Стругацкого], оказывается, [что он] никогда не имел возможности писать то, что хотел писать, в тяжелых условиях переступал через себя и писал то, что ВЫНУЖДЕН был писать и т.п. и т.д. А те, кто по недомыслию принимали написанное за чистую монету, никогда ничего не понимали и, наверное по убогости, никогда уже не поймут. Ну, хорошо, а в чем тогда ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕДО МНОЙ?4
…[Борис Стругацкий] оскорбил мои чувства читателя и просто человека. Это — откровенный плевок в лицо всем тем, кто верил в светлое будущее, видя его именно таким, каким оно было нарисовано А[ркадием и] Б[орисом] С[тругацкими]. Вы, может быть, не знаете или не помните, но на излете социализма читателям не предлагалось никакой иной реалистичной, понятной и последовательной картины близкого торжества коммунистических идей, кроме как нарисованной братьями Стругацкими. И в разговорах о “веришь ли ты в коммунизм” едва ли не самым серьезным аргументом были вовсе не апелляции к классикам марксизмаленинизма, а ссылка на то, что хотелось бы жить в таком мире, в котором живут герои Стругацких5.
Настойчивое напоминание о том, что братья Стругацкие выучили не одно поколение думать, отсылает к еще одному режиму дешифровки их текстов: в этом случае процедура интерпретации воспринимается и описывается как “решение задачи” — этической или логической. “В отечественной фантастике Стругацкие первыми стали предлагать читателю этические задачи, у которых не было и быть не могло однозначного “правильного” решения. Это было странно, непривычно, это заставляло не только сопереживать, но и думать”6, — замечает Роман Арбитман; однако чаще интерпретаторы видят свою задачу в том, чтобы восстановить некую однозначную, непротиворечивую, целостную этическую систему, причем желательно — способную служить ключом ко всем произведениям Стругацких7. К тому же режиму прочтения относятся попытки реконструировать или достроить неявные мотивации персонажей, разгадать подлинный смысл слишком бегло упомянутых деталей, выяснить то, о чем повествование умалчивает: узнать о содержимом загадочной папки Изи Кацмана в “Граде Обреченном” или о таинственных обстоятельствах гибели Тристана из “Жука в муравейнике”. Пожалуй, именно для такой увлекательной герменевтики читатели прежде всего используют возможность задать Борису Стругацкому вопрос на официальном сайте фантастов8; и именно подобные неразгаданные загадки нередко становятся опорной интригой реминисценций, сиквелов, приквелов, ремейков, в немалом количестве сочиненных поклонниками Стругацких.
Наконец, под закодированным сообщением может подразумеваться пророчество: за Стругацкими признается способность прогнозировать и предсказывать “наши сегодняшние проблемы”9. Таким образом, кодом к их текстам оказывается сама современность, все, что помечается при интерпретации как актуальное и проблематичное, — будь то засилье массовой культуры или дело Ходорковского10.
Все эти способы чтения сейчас, как правило, мало интересуют серьезных исследователей. Понятия “зашифрованного сообщения”, “кода”, “подтекста” в ракурсе гуманитарных наук не только неотделимы от языка семиотики, но и воспринимаются как его базовые, самые элементарные атрибуты, которым вряд ли удастся вновь придать аналитическую свежесть. Строго говоря, с такой точки зрения речь выше шла не об одном исследовательском поводе (“чтение как дешифровка”), а о нескольких, вполне тривиальных.
Во-первых, об особой системе адресации, внутри которой выделяется и начинает учитываться специфическая фигура “перехватчика сообщения” — цензора. Во-вторых, о том, что в терминологии Ролана Барта следовало бы называть “герменевтическим кодом” повествования11: о загадке как нарративном механизме. Разнообразные приемы уклонения от разгадки (ее “отсрочка”, “блокировка”, двусмысленность предложенного ответа) создают ситуацию увлеченности чтением, а в игровых, концентрированных формах являются стандартными ресурсами развлекательных жанров. Третий повод и вовсе может показаться исключительно жанровым: футурологический прогноз принято считать одной из основных функций научной фантастики. К тому же иллюзия вечной современности, непреходящей актуальности в принципе характерна для интерпретации любых текстов с высоким (“культовым” или “почти классическим”) статусом.
Не оспаривая каждый из этих тезисов в отдельности, можно, однако, увидеть ситуацию иначе. Попытка “разгадать”, “расшифровать” произведения Стругацких, подобрать к ним “ключ” — с какой бы целью она ни предпринималась — в любом случае представляет собой максимальную рационализацию читательского опыта. Литература при этом лишь на первый взгляд мистифицируется, окружается ореолом тайны; фактически же происходит прямо обратное: декларируется ценность и (что особенно важно) возможность абсолютно успешной коммуникации между авторами и читателями. Иначе говоря, читатель должен в конце концов понять, что означает текст, — понимание неизбежно, хотя и по ряду причин отсрочено. Сам факт столь тотальной — очень часто “непрофессиональной”, “бытовой”, даже “наивной” — рационализации и семиотизации представлений о литературе провоцирует заслуживающие исследования вопросы. И прежде всего — как совмещается эта рационализирующая риторика, ориентированная на описание знаков и поиск символов, с почти иррациональной преданностью “реалистичному миру”, в котором “живут герои Стругацких”?
МОДАЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТЫ:
РЕАЛИСТИЧНОЕ, ФАНТАСТИЧЕСКОЕ, АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ
Монография Льва Лосева, впервые изданная в 1984 году12, по сей день остается наиболее развернутым и доказательным исследованием метафоры “эзопов язык”, занимавшей в период существования советской цензуры столь заметное место в славистике. Книга Лосева опирается на утверждение, что эта метафора приобретает в русской, а затем в советской ситуации терминологическую определенность: под “эзоповым языком” начинает подразумеваться особый режим письма. Во многом следуя подходам московско-тартуской школы и продолжая лотмановские размышления о коммуникативном шуме13, Лосев описывает идеальный, предельно успешный для автора эзопова сообщения тип коммуникации характерным алгебраическим (требующим дополнительной расшифровки) способом: A: Nc + Nae —> C: /-0/ —> R.
Согласно пояснению (ключу) к этой формуле, автор (А) должен отправить сообщение на эзоповом языке, которое воспринимается цензором как шум (Nae), и, параллельно, сообщение, которое отвечает всем требованиям цензуры и воспринимается как шум читателем (Nc), — лишь в этом случае вмешательство цензора (С) имеет все шансы оказаться минимальным (в пределе — нулевым) и читателю (R) удастся декодировать высказывание именно так, как того ожидает автор. То есть идеальный эзопов текст будет состоять исключительно из сегментов, способных казаться шумом (на языке семиотических формул — Т = Nc + Nae14). Тогда этот режим письма (и чтения) можно в каком-то смысле назвать воплощением семиотической мечты: он предполагает коммуникацию, при которой сама идея неупорядоченности, неуправляемости, шумовых помех начинает служить налаживанию и структурированию каналов связи. Кажется, для этого следует всего лишь усилить (удвоить, а то и утроить) процедуру кодировки: чем тщательнее будет закодировано сообщение, тем вернее оно приобретет в глазах стороннего и нежелательного наблюдателя характеристики шума.
Подобный сговор с хаосом, однако, оказывается разрушителен именно для семиотического подхода: исследователь здесь вступает на шаткую почву, несовместимую с проектом “точного” знания о коммуникации. Лев Лосев концептуализирует и подробно рассматривает маркеры, которые позволяют читателю опознать эзопов язык, но ненадежность таких сигналов очевидна — и, пожалуй, в первую очередь для самого автора монографии. Собственно, проблематична граница между “эзоповым” и “прямым” сообщением — в принципе цензор вполне способен расшифровать “эзопов” код, а “прямое” сообщение легко принимается подготовленным читателем за “эзопово”15.
Главка монографии, посвященная притчам, которые скрываются под маской научной фантастики, — и преимущественно произведениям братьев Стругацких, — вероятно, наименее убедительна. Попытки декодировать имя главного героя “Гадких лебедей” (Банев — от “русской бани” и от “полбанки”) или увидеть в плотной атмосфере планеты Саракш из “Обитаемого острова” аллегорию удушающей атмосферы “закрытого общества” никак не противоречат формальной логике, но в то же время вызывают отчетливое сопротивление, плохо согласуясь с памятью о непосредственном читательском опыте.
Иначе — в обход распространенного способа говорить о Стругацких — интерпретирует их прозу американская исследовательница Ивонн Хауэлл16. Намеренно не останавливаясь на проблеме эзопова языка, Хауэлл отказывается описывать эту прозу “просто” как набор аллегорий, скрытых под оболочкой “популярного” (научно-фантастического, отчасти — детективного и приключенческого) жанра. По мнению исследовательницы, речь здесь должна идти о значительно более сложных нарративных механизмах, прежде всего — о механизме “префигурации” (“prefiguration”): в повествование вводятся уже закрепленные в тех или иных культурных практиках, связанные с устойчивым комплексом читательских ожиданий и даже “архетипичные” образы-мотивы (от литературных до религиозных), которые могут разворачиваться в определенную сюжетную парадигму и тем самым “предвосхищать” дальнейшее развитие событий в большей степени, чем жанровые формулы. Рычагом, который запускает такой механизм, является не столько иносказательность, сколько интертекстуальность: Стругацкие, согласно Хауэлл, пытаются “возобновить прерванный диалог” с “философскими и эстетическими традициями русского модернизма”, и именно эта “апокалиптическая культура до- и послереволюционной эпохи” признается в данном случае основным поставщиком образов и мотивов, основным каналом для префигурации.
Как видим, префигурация, в общем, подразумевает все ту же предельно рациональную авторскую стратегию: аллюзия, как и аллегория, представляет собой загадку, которую разгадывают читатели, код для избранных, а нередко и ключ ко всему произведению в целом. Хауэлл подчеркивает, что Стругацкие “сознательно”, более того — “с наставническим упорством” апеллировали в своих текстах к источникам, “забытым” советскими читателями, вытесненным из “культурной памяти”. Предполагается, что наслоение “полузнакомых образов” позволяло “вспомнить” забытое: пока главный герой романа “Град Обреченный” по дороге домой, на окраину города проходил мимо рабочих, роющих котлован, читатель Стругацких должен был (по мнению исследовательницы) “мысленно “пройти” мимо романа Платонова “Котлован””, вспомнить и его содержание, и его “настоящее “место” в нарушенном и искаженном континууме российской интеллектуальной истории”. В этом — далеко не самом обоснованном — утверждении Хауэлл различие между аллюзией и аллегорией и вовсе практически стерто.
Но префигурация заключает в себе и ресурсы неоднозначности: ведь даже в том случае, когда образы и мотивы заимствуются из некоего конкретного источника, они отсылают к существенно более широкому кругу и литературных, и культурных контекстов. Иными словами, результат префигурации вовсе не обязательно будет прочитываться как аллюзия. Скорее, наоборот — и это наблюдение Ивонн Хауэлл представляется мне особенно значимым для разговора о литературе Стругацких, — весьма смутно узнавая, но не идентифицируя подвергшийся префигурации образ, читатель присваивает ему характеристики реальности, тем более по контрасту с “фантастическими” декорациями и в сочетании с деталями “из повседневной жизни”.
Возможно, такое наблюдение и продолжает отчасти постструктуралистскую традицию, в рамках которой понятия “реализм” и “интертекст” тесно связаны17; с точки зрения и в терминологии Барта — “эффект реальности” основывается на “референциальной иллюзии” (“…По ту сторону бумажного листа находится вовсе не реальность, не референт, но Референция, “безбрежное и неуловимое пространство письма””18). Отнюдь не являясь последователем этой традиции (что, разумеется, будет продемонстрировано и в настоящей статье), я, однако, хотела бы зафиксировать подобную возможность увидеть в эффекте реальности альтернативу “эзоповым” прочтениям Стругацких.
Впрочем, важный для Хауэлл акцент на авторской интенции, на сознательном авторском замысле тоже не вполне соответствует теории референциальной иллюзии. Фактически, концептуализируя “префигурацию”, исследовательница описывает нарративный механизм, который замышляется авторами как “диалог”, отсылка к “чужому тексту”, воспринимается читателями как непосредственное дыхание реального мира, а при малейших интерпретаторских усилиях превращается в аллегорию.
Здесь будет уместно подчеркнуть: исследовательские проблемы, рассмотренные выше, — в значительной мере проблемы рецепции. Но что представляет собой в данном случае фигура реципиента, читателя? Режим эзопова языка предполагает читателя подготовленного, механизм префигурации — читателя с эклектичными вкусами, информированного отрывочно и хаотично; но при этом и Лосев, и Хауэлл, говоря о читателе Стругацких, имеют в виду, в общем, одну и ту же аудиторию. Речь идет о “советской интеллигенции”, или, как пишет Хауэлл, об обитателях “промежуточной культуры”, тех “расщелин” в культуре официальной, которые “появляются в послесталинскую “оттепель” и продолжают расширяться в годы правления Брежнева и в период, предшествовавший “гласности””. При всей меткой образности такого определения остается неясным, как обозначить границы этой промежуточной среды, была ли она гомогенна и претерпевала ли изменения за вполне продолжительный срок от “оттепели” до “гласности”.
Практически любое сколько-нибудь пространное исследование, посвященное Стругацким, открывается периодизацией их литературы — произведения, написанные в разные годы, отличаются друг от друга до такой степени, что, кажется, обращены к разным адресатам. Противопоставление ранних и поздних текстов, “крепкой научной фантастики” (hard SF)19 и “социально-философских притч”, влечет за собой и противопоставление читательских групп: “юношеская” аудитория противополагается “взрослой”, “научно-техническая интеллигенция” — “гуманитарной”. Собственно, феномен Стругацких, интересный Льву Лосеву или Ивонн Хауэлл, начинается с выхода за пределы “крепкого жанра”, с того раздвоения адресации, о котором пишет Лосев: под маской детской (или, в данном случае, юношеской) литературы может скрываться сообщение для значительно более искушенных читателей20.
Ситуация выглядит несколько по-другому, если наблюдать за ритуалами, принятыми в сообществах поклонников фантастов. Вопрос: “Какую из книг Стругацких вы считаете лучшей?”, весьма часто структурирующий обсуждение в блогах и на форумах21, предоставляет иную (отличную от периодизации) возможность справиться с многообразием этой прозы. Выбор “лучшего” задает персональную оптику, через которую прочитываются и связываются вместе все остальные тексты. Подобные опросы — тоже своеобразный способ классификации читательской аудитории, и он демонстрирует, что логика поступательной эволюции от простого к сложному, от однозначного к многозначному здесь не всегда работает, а аудитория ранних и поздних произведений может различаться гораздо меньше, чем сами произведения.
Между тем и ранние, и поздние произведения Стругацких, пожалуй, не содержат никаких сколько-нибудь заметных подсказок, призванных прояснить проблемы адресации. Если не считать ироничного подзаголовка к повести “Понедельник начинается в субботу” — “для научных работников младшего возраста”, фигура адресата эксплицирована лишь в “Хромой судьбе”: сюжет этого романа строится вокруг тайной рукописи, которую главный герой пишет “в стол”, и таинственной машины, которая умеет определять Наивероятнейшее Количество Читателей Текста. Образ читателя, с одной стороны, наделяется безусловной значимостью, однако с другой — скорее деконструируется, чем конструируется: “Читатель. Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей” [Т. 9. С. 130]22.
Мало что добавят к этому подчеркнуто рациональному ракурсу и “Комментарии к пройденному”. Каждая глава книги Бориса Стругацкого фактически состоит из двух историй: истории создания того или иного литературного текста и истории его публикации. Занимая центральное место во второй (как правило, более чем драматичной) истории, фигура адресата почти полностью отсутствует в первой.
Единожды упомянуто, впрочем, “подробное математическое исследование”, которое фантасты предприняли в начале 1970-х годов, вычисляя, какой из придуманных ими сюжетов “более других подходит для немедленного взятия в работу”: “По десятибалльной системе определяются: степень разработанности сюжета; вероятность будущего опубликования; пригодность для “Детгиза”; желание этот сюжет писать; способность (готовность) писать; общественная потребность в данной повести, а также (по десятибалльной шкале) “повесть может получиться на… баллов”. Затем определяется для каждого сюжета некое среднее взвешенное”23. Эта схема приоритетов вряд ли достаточна для далеко идущих выводов об образе адресата и мотивациях письма — не только потому, что она явно ситуативна, окказиональна, но и потому, что в глазах стороннего наблюдателя предельно абстрактна (в конечном счете мы узнаём лишь о заинтересованности фантастов в читателе). Однако стоит обратить внимание на критерий отбора, опередивший в перечне “общественную потребность”, — “желание писать”.
К этому герметичному критерию “Комментарии…” и апеллируют чаще прочих: процесс литературного письма приобретает мотивацию и ценность уже постольку, поскольку он “увлекателен”, “интересен” самим авторам, и, напротив, утрачивает всякий смысл, непременно прерывается ими, если “писать стало неинтересно”24.
Тем не менее дальше я намереваюсь продолжить разговор о рецепции Стругацких, опираясь непосредственно на их тексты. Антуан Компаньон описал жанр как “модель чтения”25, но в данном случае было бы точнее говорить не о жанровой эволюции (от hard SF до притчи), а о готовности авторов свободно экспериментировать с тем, что социологи литературы называют “модальными рамками” письма, “эстетическими мнимостями”26, и прежде всего — со всевозможными модусами “иной реальности”: ирреальное, будущее, должное (утопическое), волшебное, мифологическое и проч.
Эта проблема тоже может быть описана как проблема читательского восприятия: именно так, с опорой на читательский опыт и фигуру имплицитного читателя, концептуализирует “фантастическое” Цветан Тодоров. В сегодняшних исследованиях заметен интерес к тодоровскому “Введению в фантастическую литературу” — интерес критический, но вместе с тем операциональный. При всем схематизме гипотезы, согласно которой “эффект фантастического” возникает между полюсом “необычного” и полюсом “чудесного” (напомню, предмет “Введения…” достаточно узок — фантастическая проза конца XVIII—XIX веков, “литература “чудес” и литература “чудищ””27, в формулировке Бориса Дубина), понятие “фантастического эффекта” может быть использовано в более широком смысле. Вводя это понятие, со всей очевидностью антонимичное бартовскому “эффекту реальности”, Тодоров замечает, что фантастическая литература проблематизирует читательские представления о “реальности”, с одной стороны, и о “литературе” (фикциональности), с другой28.
С этих позиций исследователи литературы и кино, плодотворно работающие с категорией фантастического, склонны различать два ее значения. Если в первом значении фантастическое — узловой элемент той или иной узнаваемой жанровой формулы (научная фантастика, фэнтези, хоррор — жанры, которые иногда объединяются термином speculative fiction), то во втором — особый “эффект” (в случае литературы — повествовательный), который разрушает инерцию восприятия, а нередко и дезориентирует читателя, поскольку побуждает его сверять собственные представления о реальном с атрибутами вымышленного мира и с самой логикой вымысла29. Тогда можно сказать, что фантастическая проза появляется как своеобразное зеркало “реалистической” литературы30, фиксируя, делая явными модальные рамки любого литературного вымысла и присваивая многообразным модусам иной реальности (от “ирреального” до “мифологического”) статус “эстетических”, литературных.
Однако к интересующей меня в данном случае теме имеет прямое отношение еще один концепт, которым оперирует Тодоров, — “аллегорическое”. Аллегория, по мнению автора “Введения…”, не только несовместима с фантастическим эффектом, но обязательно его нивелирует. Персонажи аллегорического повествования воспринимают происходящие с ними “сверхъестественные”, “необъяснимые” события как нечто закономерное, не выказывают “удивления” — пожалуй, именно отсутствие удивления при встрече с необъяснимым и необъясненным трактуется во “Введении…” как основной сигнал, позволяющий отличить фантастику от аллегории. Иными словами, аллегория сопоставима с фантастическим эффектом постольку, поскольку тоже выявляет читательскую потребность в нормализации реальности, побуждает нас ощутить отсутствие “объяснений” как недостачу, хотя тут же ее компенсирует возможностями “небуквального прочтения”, обнаружения “второго смысла”.
При этом Тодоров подчеркивает: “…Об аллегории можно говорить только тогда, когда в самом тексте содержатся эксплицитные указания на нее. В противном случае перед нами обычное читательское толкование; в этом смысле не существует литературного текста, который не был бы аллегорическим, ибо литературному произведению свойственно служить предметом бесконечных истолкований и перетолкований”31. В произведениях, отвечающих достаточно жестким жанровым канонам, распознать подобные экспликации, конечно, не составит труда (не случайно в качестве примера здесь прежде всего приводится басенная мораль), но очевидно, что грань между “читательским толкованием” и “авторским замыслом” далеко не всегда просматривается столь отчетливо. Таким образом, в книге Тодорова “аллегорическое” — как и “фантастическое” — легко утрачивает определенные очертания, становясь отражением литературы в целом, воплощая условность, присущую любому литературному тексту.
Социологическая оптика предоставляет возможность увидеть здесь в первую очередь нормативную, а не нарративную проблему. Эти заметки о прозе Стругацких будет структурировать не столько готовая оппозиция фантастика/аллегория (или, тем более, фантастика/реальность), сколько внимание к многообразию модальных рамок — к тому, как именно они соотносятся с имплицитными механизмами восприятия литературных норм (не в последнюю очередь жанровых) и норм правдоподобия (конструкций “реального”, “обычного”, “настоящего”).
Можно предположить, что такой нормативно-ценностный ракурс позволит аналитически связать те эффекты и программы чтения, которые имплицитно содержатся в повествовании, с более или менее общими формами опыта, разделяемого первыми читателями фантастов. С этой точки зрения не принципиально, “кем” являлся прямой адресат Стругацких — студентом технического вуза или доктором филологических наук, тем более что грань между этими статусами проницаема. Значимо другое — с какими представлениями о социальной реальности и навыками чтения “работает” литературный текст; какими представлениями нужно обладать, чтобы этот текст был прочитан.
___________________________
1) Плеханов С. Когда все можно? // Литературная газета. 1989. 29 марта. С. 4.
2) Там же.
3) magic-garlic.livejournal.com/15151.html.
4) abcdefgh.livejournal.com/186513.html?thread=734 353#t734353.
5) katherine-kinn.livejournal.com/65491.html?threa... =1079251#t1079251.
6) Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера // Литературная газета. 1991. 20 ноября. С. 10.
7) См., например: Брилева О. Братья Стругацкие: кризис человекобожества в “Мире Полудня”: www.krotov. info/libr_min/b/brileva.html.
8) www.rusf.ru/abs/int.htm.
9) Ср. название статьи: Арбитман Р. Участь Кассандры: Братья Стругацкие… О наших сегодняшних проблемах они говорили еще вчера.
10) См., например: Ермилова Е. Дурак — идеал рыночной экономики! // Литературная газета. 2003. № 26; Быков Д. Прекрасные утята (о пользе чтения Стругацких) [Быковquickly: взгляд-76]: old.russ.ru/columns/bikov/.
11) Барт Р. S/Z / Пер. с фр. под ред. Г.К. Косикова. 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 44, 140—141.
12) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature / Translated by J. Bobko. München: O. Sagner in Kommission, 1984.
13) Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С. 98—99.
14) Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature. P. 42-49.
15) Ibid. P. 16, 119.
16) Howell Y. Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky. N.Y.; Bern; Berlin; Frankfurt am Main; Paris; Wien: Lang, 1994. (Далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: fan.lib.ru/a/ashkinazi _l_a/text_2110.shtml.)
17) Об этом: Компаньон А. Демон теории / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 128—133.
18) Barthes R. S/Z. Paris, 1970. Р. 29. Цит. по: Компаньон А. Демон теории. С. 129—130.
19) Potts S.W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers. San-Bernardino: The Borgo Press, 1991. (Здесь и далее цит. с изменениями по пер. А. Кузнецовой: fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2150.shtml.)
20) Loseff L. On the Beneficence of Censorship… P. 116.
21) См., например: www.rusf.ru/cgi-bin/voting; http:// community.livejournal.com/strugatsky/9884.html.
22) Здесь и далее произведения братьев Стругацких цит. по изд.: Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд., доп. М.: Текст, 1991—1993.
23) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. СПб.: Амфора, 2003. С. 225.
24) Там же, С. 91—93, 154, 156, 181, 198, 286 и др.
25) Компаньон А. Демон теории. С. 184.
26) Гудков Л. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: Русина, 1994. С. 386—388.
27) Дубин Б. Обращенный взгляд [Рец. на кн.: Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997 ] // НЛО. 1998. № 32. С. 363.
28) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 126.
29) См. размышления о “Введении в фантастическую литературу” в статьях: Зенкин С. Эффект фантастики в кино // Фантастическое кино. Эпизод первый / Под ред. Н. Самутиной. М.: НЛО, 2006. С. 50—65; Дашкова Т., Степанов Б. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского “Солярис” и “Сталкер” // Там же. С. 311—344.
30) Об этом: Дубин Б. Обращенный взгляд С. 365.
31) Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 55.
@темы: «Волны гасят ветер», «Град обреченный», «Жук в муравейнике», «Далёкая Радуга», «За миллиард лет до конца света», Попытка к бегству, Улитка на склоне, Критика, Понедельник начинается в субботу, «Малыш», Сказка о Тройке, «Пикник на обочине», Комментарии к пройденному, «Отель "У погибшего альпиниста"», «Гадкие лебеди», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Полдень, XXII век», Возвращение (Полдень XXII век), «Путь на Амальтею», «Стажёры», «