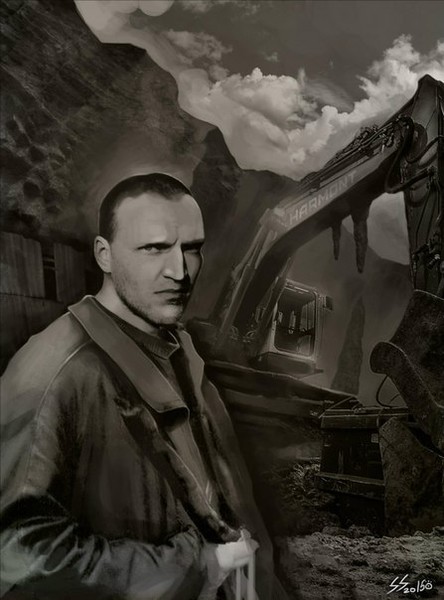«НЛО» 2007, №88
СОЦИАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ: ИСТОРИЯ РЕЦЕПЦИИ
ИРИНА КАСПЭ
Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких?
“СМЫСЛ ЖИЗНИ”
Фантастику Стругацких обычно в первую очередь определяют как “социальную”, то есть генетически связанную с утопией. Часто говорят об “утопическом периоде”32 их литературы, имея в виду ранние рассказы и повести о коммунистическом будущем, прежде всего — “Возвращение. Полдень, XXII век” (1960). В более поздних текстах (“Обитаемый остров” (1967), “Град Обреченный” (1974)) нередко обнаруживают антиутопическую логику. Наконец, Вячеслав Сербиненко фиксирует “подлинный прорыв за пределы Утопии” в “Улитке на склоне” (1965)33, а Фредерик Джеймисон — “автореферентный дискурс”, содержанием которого становится “непрерывное вопрошание” о самой возможности утопического письма, в “Пикнике на обочине” (1971)34.
читать дальше
Коммунистическое будущее — мир, где происходят события первых произведений Стругацких, — обладает двойным статусом. С одной стороны, это официальный ресурс целеполагания, вотчина государственной идеологии, территория, на которую в любой момент готовы предъявить права инстанции политической власти, общее, “интерсубъективное”, как сказали бы социологи, пространство (“Люди будущего не могут так говорить, так действовать, быть такими” — именно в эту формулу обычно облекались претензии критиков, редакторов, цензоров к авторам35).
С другой стороны, вслед за Иваном Ефремовым и его “Туманностью Андромеды” Стругацкие открывают или, лучше сказать, реанимируют будущее как пространство персонального воображения. По воспоминаниям Бориса Стругацкого: “…это время — конец 50-х — начало 60-х годов — <…> было замечательно тем, что громадный слой общества обнаружил Будущее. Раньше Будущее существовало как некая философская категория. Оно, конечно, было, и все понимали, что оно светлое. Это было всем ясно, но никто на самом деле на эту тему не думал, потому что все это было совершенно абстрактно. Описанные мною вкратце события [от ХХ съезда партии до публикации и бурного обсуждения романа Ефремова. — И.К.] — они сделали Будущее как бы конкретным. Оказалось, что Будущее вообще, и светлое Будущее — коммунизм — это не есть нечто, раз и навсегда данное классиками. Это то, о чем надо говорить, что достойно самых серьезных дискуссий и что, по-видимому, зависит от нас”36.
С точки зрения официальных идеологических норм появившаяся возможность такой конкретизации и приватизации будущего, конечно, означала возможность утопии, или, точнее, ухронии — мира, который демонстрирует разрыв между настоящим и должным. Более того, в “Полдне” ощущение разрыва обостряется, усиливается, удваивается вместе с мгновенным (для читателей) перемещением героев, “людей будущего”, еще на столетие вперед — из начала XXI века в начало XXII. Можно предположить, однако, — и ретроспективные комментарии Бориса Стругацкого это подтверждают, — что авторами “Полдня” детальный интерес к будущему, напротив, воспринимался как преодоление утопической логики: будущее начинало казаться осуществимым, достижимым, побуждающим к действию в настоящем (“зависит от нас”), но главное — оно противопоставлялось застывшей, “заданной классиками” и поэтому слишком “абстрактной” категории должного.
Эта двойная оптика прослеживается в тех в буквальном смысле слова “программных” тезисах, которые были предложены начинающими писателями Стругацкими и прозвучали столь ново и веско. Один из них — “Mы [в своих текстах. — И.К.] строим Мир, в котором нам хотелось бы жить и работать”37, — безусловно, утопический, поскольку переносит читателей в пространство разделяемых авторами ценностей и авторских представлений о должном. Другой тезис, впрочем, быстро отвергнутый самими Стругацкими, — о коммунистическом будущем как арене борьбы хорошего с лучшим38 — свидетельствует о намерении создать не столько утопию, сколько “реалистический роман”, в котором, по официальному определению, не может конструироваться неподвижное, абсолютно благополучное общество, но обязательны конфликт и социальный прогресс.
В статье, посвященной фантастической литературе и отчасти “Пикнику на обочине”, Фредерик Джеймисон показывает, что утопическое повествование можно анализировать через поиск вытесненных негативных смыслов, через деконструкцию попыток “вообразить мир без негативности”39 — как видим, этот способ анализа непросто применить уже к самым ранним текстам Стругацких. Стратегия Стругацких, казалось бы, и заключается в настойчивом и рациональном изобретении проблем, способных сделать мир коммунистического будущего менее безоблачным и более “реалистичным”, “достоверным”. Однако надобность в такой искусственной подпорке, как идея борьбы хорошего с лучшим, очень скоро отпадает, и сложный, двойственный статус придуманного Стругацкими мира начинает обнаруживать себя в других, более серьезных конфликтах. Чтобы их описать, потребуется чуть подробнее остановиться на первых произведениях о “мире Полудня” и о предшествовавшей ему эпохе освоения космоса.
Собственно, заявление о том, что вымышленный мир будущего должен воплощать именно персональные ценности (“Мир, в котором нам хотелось бы жить и работать”), одновременно являлось и декларацией самих этих ценностей. Используя удачную формулировку Татьяны Дашковой и Бориса Степанова, предложенную по близкому поводу, можно сказать, что ценностный выбор здесь состоял в “утверждении частной жизни как сферы этически осмысленного существования человека и непосредственной заинтересованности в Другом”40 (имеется в виду, конечно, социологический Другой, а не философское Другое).
В отстаивании права на персональную футурологию Стругацкие идут гораздо дальше Ефремова, не просто приватизируя, но обживая коммунистическое будущее, заполняя его знаками частной, даже домашней среды. В этом будущем планетологи и звездолетчики расхаживают по своему кораблю в домашней одежде (крайняя степень комфорта — “роскошный красный с золотом халат” [“Стажеры”. Т. 1. С. 203]); блюда, допущенные в их рацион, подчеркнуто будничны и мягки, как пища выздоравливающего после тяжелой болезни: бульон с вермишелью [“Путь на Амальтею”. Там же. С. 107], каши — гречневая со стаканом молока [“Полдень, XXII век”. Т. 2. С. 140], овсяная [“Стажеры”. Т. 1. С. 203]. Мидии со специями “начисто исключены”, однако для пущего уюта протащены на борт контрабандой [“Путь на Амальтею”. Т. 1. С. 125]. Не менее уютным выглядит коммунальный быт на Земле. Один из центральных персонажей предпочитает, возвращаясь на родную планету, проводить большую часть времени лежа; столь удобная, расслабленная поза, принимаемая в самых разных ситуациях и местах, компенсирует почти полное отсутствие частной собственности в коммунистическом мире — весь этот мир помечается как освоенная и присвоенная территория.
Такое обживание будущего концептуализируется авторами как намерение изобразить бытовые, повседневные стороны героизма41 (задача, зеркально противоположная мобилизационным программам героизации повседневности). Но особое, слегка ироничное обаяние бытовым деталям, которые без труда узнаются читателями и соотносятся с собственным повседневным опытом, придают другие, более важные маркеры “частной жизни”.
Когда Кондратьев вернулся со связкой свежей рыбы, звездолетчик и писатель довольно ржали перед затухающим костром.
— Что вас так разобрало? — с любопытством осведомился Кондратьев.
— Радуемся жизни, Сережа, — ответил Славин.— Укрась и ты свою жизнь веселой шуткой [Т. 2. С. 277].
Эта сцена из “Полдня” вмещает в себя едва ли не полный набор тех ценностно окрашенных представлений о сфере частного, которые разделяли или, с большей вероятностью, готовы были разделить читатели Стругацких в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В центре этих представлений — радость общения, причем именно “непосредственного”: без посредников, без дистанций, столь заметных в публичной сфере42. Декорации общения (на природе, перед костром) как нельзя лучше передают ощущение свободы и взаимной симпатии (собственно, этой модели совместного поведения и предстояло вскоре после написания “Полдня” развернуться в массовое увлечение туризмом). Коммуникативное взаимодействие здесь значимо само по себе, и поэтому особенно ценный его результат — “веселая шутка”, то есть необязательная игра словами и одновременно сигнал взаимопонимания, опознания “своих”.
Именно коммуникативная природа языка привлекает и интересует Стругацких. Структурная (или, как было принято говорить в 1960-е годы, структуральная) лингвистика с ее математической точностью и сложной терминологией43 по всем параметрам подходила на роль науки будущего и стала в “мире Полудня” весьма перспективной областью знания, развивающейся не менее быстрыми темпами, чем планетология (“Все от ужаса рыдает / И дрожит как банный лист! / Кораблем повелевает / Структуральнейший лингвист” [“Попытка к бегству”. Т. 3. С. 29]). Один из излюбленных фантастами приемов письма — создание коммуникативных ситуаций, в которых акцентирована процедура перевода, однако отсутствует фигура переводчика. Курьезные сбои в беседе персонажей, говорящих на разных языках, легкие искажения чужой грамматики производят не только комический эффект, но и впечатление “живого”, “естественного” (непосредственного, неопосредованного) общения. Уже в повести “Путь на Амальтею” (1959) появляется французский космолетчик Моллар, намеренный говорить “только по-русску” [Т. 1. С. 89]. Значительно позднее в “Отеле “У погибшего Альпиниста”” (1969) — стилизованном герметичном детективе, предельно далеком от коммунистической футурологии, — один из самых смешных эпизодов в прозе Стругацких будет представлять собой малоуспешную коммуникацию земного полицейского с инопланетным механиком:
— Вы иностранец?
— Очень, — сказал он. — В большой степени.
— Вероятно, швед?
— Вероятно. В большой степени швед [Т. 5. С. 376].
Ниже я вернусь к этой многообещающей теме; пока важно подчеркнуть ту особую роль, которую играют в литературе Стругацких коммуникативные ресурсы языка. Здесь же, конечно, необходимо вспомнить отточенность диалогов как таковых, колоритность и стилистическое многообразие речевых стратегий, яркость бонмо — все то, что исследователи Стругацких нередко описывают как “блеск словесного искусства”44.
Таким образом, “частная жизнь” и является связкой между утопической конструкцией должного, с одной стороны, и неприятием нормативных представлений о коммунистическом будущем, а возможно, и вообще идиосинкразией к слишком “абстрактным” (идеологизированным) категориям долженствования и целеполагания — с другой. Именно центральный для любой утопии механизм рационального целеполагания, смыслонаделения оказывается в этом случае особенно уязвимым и даже, как я постараюсь показать дальше, дает сбой.
В “Полдне” высокотехнологичные крестьяне будущего беззаботно спорят о “смысле жизни”:
— Человек умирает, и ему все равно — наследники, не наследники, потомки, не потомки <…>
— Интересно, где бы ты был, если бы твои предки рассуждали так же. До сих пор сошкой землицу ковырял…
— Вздор! При чем здесь смысл жизни! Это просто закон развития производительных сил <…>
— Это вопрос сложный. Сколько люди существуют, столько они спорят о смысле своего…
— Короче!
— …о смысле своего существования. Во-первых, потомки здесь ни при чем. Жизнь дается человеку независимо от того, хочет он этого или нет…
— Короче! <…>
— А короче вот: жить интересно, потому и живем. А кому не интересно — вот в Снегиреве фабрика удобрений <…>
— Это кухонная философия! Что значит “интересно”, “не интересно”? Зачем мы — вот вопрос! <…>
— Самый дурацкий вопрос — это “зачем”. Зачем солнце восходит на востоке?.. [Т. 2. С. 127—128].
Этот теоретический спор нисколько не омрачает картину всеобщего благоденствия, к тому же ближе к финалу повести в диалоге совсем других персонажей найдена формула, представляющая собой удачный компромисс между “частным” и “общественным”, между “кухонной философией” (с ключевым словом “интересно”) и “законом развития производительных сил”: “…Работать гораздо интереснее, чем отдыхать” [Там же. С. 277].
В следующей повести Стругацких — “Стажеры” (1961) — вопрос о “смысле жизни” управляет сюжетом и оказывается критически важен для персонажей. События вновь, как в самых ранних произведениях, происходят во времена становящегося коммунизма — не в “полуденном” XXII веке, а в начале XXI, что оправдывает появление действующих лиц с иной логикой, реликтов прежней эпохи. Именно им — стареющей мещанке и бармену из догнивающей капиталистической страны — предстоит, не сговариваясь, продемонстрировать отважным космолетчикам проблему, которая не имеет логического решения. Если человек живет, потому что ему интересно, а интересно ему в первую очередь работать, то будет ли наделена смыслом конечная точка его биографии — старость, — время, когда возможности работать уже не станет? Этот вопрос, дважды заданный в тексте достаточно прямо [Т. 1. С. 154—155, 164—165], имеет непосредственное отношение к истории, которая рассказывается в “Стажерах”: постоянные герои Стругацких пребывают в преддверии близкой старости, а некоторые из них, как выясняется в финале, и близкой смерти.
Отсутствие рационального ответа на столь безупречный вопрос, конечно, указывает на место разрыва в позитивном образе будущего; иначе говоря, целеполагание в данном случае и есть та проблематичная область вытесненной негативности, о которой предложил задуматься Джеймисон. Значимо, что такие разрывы мгновенно и иррациональным образом зарубцовываются: не найдя достойных аргументов в споре о смысле жизни, коммунистические космолетчики не только не ощущают себя уязвленными, но, напротив, укрепляются в чувстве осмысленности собственного существования (“Прощай. <…> Ты мне очень помогла сегодня” [Там же. С. 155]).
В утопическом ракурсе вопрос о “смысле жизни” тавтологичен — изобретение совершенного, целесообразного общества само по себе является процедурой вменения смысла. Утверждение ценностей частной сферы, как видим, оказалось одновременно и зависимым от утопической логики, и разрушительным для нее. Собственно, понятие “смысла жизни” здесь — шаткий, всегда проблематичный результат перевода рациональной, а точнее, рационализаторской логики социального обустройства в режим персональных мотиваций. Поскольку этот режим отторгает любую генерализацию смысла (“зачем солнце восходит на востоке?”), “смысл жизни” оказывается не только предметом “вечных”, не имеющих разрешения споров (как в коммунистическом мире Стругацких, так и в публичном пространстве конца 1950—1960-х годов), но и ресурсом выявления и разоблачения утопического.
Последовавшие за “Стажерами” тексты все меньше похожи на ухронию. Сюжет “Далекой Радуги” (1962) строится вокруг катастрофы. Незначительной в масштабах вселенной, в которой обитают персонажи (гибнет одна из планет, освоенных и заселенных коммунарами), но глобальной в масштабах литературного текста: для авторов важно вообразить и продумать саму ситуацию разрушения благополучного общества — предельную ситуацию для их социальной идиллии.
В повести “Понедельник начинается в субботу” (1964) утопическая футурология (включая “всякие там фантастические романы”) откровенно пародируется: главный герой совершает краткое, но насыщенное путешествие в “описываемое”, то есть уже созданное человеческим воображением и воплощенное в тех или иных литературных произведениях будущее [Т. 4. С. 137—147]. Вообще “Понедельник”, который нередко воспринимается как беззаботно-шутливое (вариант — сатирическое) описание будней советского НИИ, представляет собой весьма сложную комбинацию различных модальных рамок45. Повествование здесь подобно “единому в двух лицах” директору НИИЧАВО, чьи ипостаси движутся в противоположные стороны по оси времени. Утопическую логику движения к идеальному коммунистическому будущему, к миру осмысленного бытия и научных свершений, фиксирует слегка перефразированная формула из “Полдня”: “Работать <…> интереснее, чем развлекаться” [Там же. С. 100]. С научной утопией смешиваются подчеркнуто архаичные чудеса — пестрая эклектика от мифа до волшебной сказки. Результатом такого смешения становится не только рационализация мифологических или сказочных сюжетов, но и нехарактерная для утопии ирония: “НИИЧАВО” — ироничный вариант утопических “Нигде” и “Когда-нибудь”, подчеркивающий условность не места или времени действия (напротив, и место, и время с готовностью “узнаются” читателями), а самого повествования (обманчивый рассказ о Ничто или даже — рассказ ни о чем, безделка).
Основные топосы “Улитки на склоне” (1965), Управление и Лес, представляют собой аллегории настоящего и будущего соответственно — во всяком случае, один из эпиграфов к повести, цитата из пастернаковского “За поворотом” (“За поворотом, в глубине / Лесного лога / Готово будущее мне / Верней залога. /Его уже не втянешь в спор / И не заластишь, / Оно распахнуто, как бор, / Все вглубь, все настежь”), недвусмысленно подсказывает именно это суждение. Такая пространственная аллегория времени в каком-то смысле закрывает тему утопического и вместе с тем “правдоподобного”, “реалистичного” будущего. Коммунистический “мир Полдня” не исчезает из прозы Стругацких, напротив, он усложняется, в нем продолжает идти время, сменяются поколения, но существенно меняется и его статус — из мира будущего и мира должного он постепенно превращается в “один из возможных миров” (“Жук в муравейнике” (1979), “Волны гасят ветер” (1984)). По замечанию Аркадия Стругацкого, “Общество можно любое выдумать. <…> Не имеет значения. Имеет значение поведение человека”46.
Предложив частную, персональную версию будущего, Стругацкие тем самым в какой-то мере конструировали и негативное понятие “коммунистической утопии” (столь востребованное впоследствии публицистикой второй половины 1980-х) — ведь в режим утопии автоматически переводились любые попытки утвердить нормативный, канонический образ будущего, чуждые фантастам. Выдуманные общества из их поздних текстов приобретают черты негативной утопии, отсылая, конечно, и к подобным официальным образам будущего, и к санкционированным образам “советского настоящего”, а отчасти и к утопическим построениям “мира Полудня”. Мне, однако, хотелось бы привлечь внимание к тому, что оказывается в центре фигур негативности. В романе “Град Обреченный” (1974), который, пожалуй, с наибольшими основаниями можно назвать антиутопией, вопрос о “смысле жизни” вновь артикулируется как нельзя более отчетливо. Фактически в ходе повествования (и в ходе эксперимента, который неведомые фантастические силы проводят над избранными и собранными вместе людьми) моделируется общество, искусственно лишенное ресурсов целеполагания. Главному герою, бывшему комсомольцу сталинских времен, приходится последовательно убеждаться в том, что механизмы целеполагания работают вхолостую, производят лишь ненадежные и неустойчивые субституты смысла: “Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов… Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках… Так что же еще может со мной случиться?” [Т. 8. С. 325].
Причина этой безысходности, в соответствии с законами негативной утопии, социальна: персонажи романа обнаруживают, что в их экспериментальный Город не попадают “творческие таланты” [Там же. С. 236], “строители храма культуры”, способного сделать осмысленной жизнь всех остальных — “жрецов” и “потребителей” культурных ценностей [Там же. С. 331—332]. Стоит заметить, что едва ли не единственные нормы общественного устройства, которые навязываются подопытным горожанам таинственными экспериментаторами, — отсутствие постоянных профессий; регулярная смена рода деятельности создает ощутимое препятствие для того, чтобы труд оказался (как в “Полдне” или “Стажерах”) автономным источником “смысла жизни”.
Однако не меньше о механизме целеполагания сообщат те тексты Стругацких, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к утопической логике. В повести “За миллиард лет до конца света” (1974) фантастическая сила (еще более неведомая и абстрактная, чем в “Граде Обреченном”) вмешивается в подчеркнуто “частную” жизнь персонажей, претендуя на ее главную ценность — возможность работать. Именно это настойчивое и совершенно немотивированное вмешательство присваивает обычному, каждодневному (столь знакомому большинству постоянных читателей Стругацких) и, в общем, тоже немотивированному научному труду сверхценную значимость, собственно, и запуская механизм целеполагания. Чем изобретательнее и бессмысленнее препятствия, чинимые непредсказуемым Гомеостатическим Мирозданием, тем большим смыслом наделяются героические попытки работать, тем в большей мере это отчаянное действие начинает казаться производством смысла как такового. Как видим, фантастическое в этом случае (непонятное, темное, не имеющее очертаний, фантастическое per se) заполняет или представляет собой провал, на месте которого в ранних текстах Стругацких (от “Полдня” до “Понедельника”) размещалась утопия коммунистического будущего. Фантастическое начинает выполнять основную функцию утопии — функцию вменения смысла.
Между ранними и поздними произведениями Стругацких разительная дистанция, существенно превышающая обычные представления о писательских возможностях, однако поклонники фантастов чаще предпочитают акцентировать сходства, а не различия. По всей видимости, за этим чувством “чего-то общего”, объединяющего оптимистичный “Полдень” и “Град Обреченный”, “Путь на Амальтею” и “За миллиард лет до конца света”, стоит особый, двойственный режим чтения. С одной стороны, ценности “частной сферы”, определяя способы построения нарратива, предполагают чтение-удовольствие и чтение-узнавание — смакование бытовых подробностей и языковых излишеств, обнаружение “знакомого”, “обычного”, “повседневного”, “своего”, “правдоподобного”, “такого, как в жизни”. С другой стороны, эти ценности преподносятся в модусе рационализации и идеализации и усваиваются через фигуры целеполагания и смыслонаделения — иными словами, перед читающим оказывается повествование с дидактическими свойствами, повествование, которое сообщает о должном (ср. метафоры учительства, наставничества в текстах Стругацких и в текстах о Стругацких).
Наложение обоих режимов производит специфический и сильный эффект: можно сказать, что фантасты обеспечивали своих первых читателей моделями поведения, если не существования, в том пространстве, которое изначально воспринималось не просто как обыденное, но и как бессмысленное (неструктурированное, возможно, “абсурдное”, в любом случае — “неинтересное”, не стоящее внимания, промежуточное). В литературе Стругацких оказывались чрезвычайно важными (приобретали смысл) все те стороны повседневного опыта, которые прежде несознательно и даже осознанно игнорировались, которые хотелось пропустить мимо себя как можно скорее — не только домашняя еда или веселая шутка, но и (конечно, уже в более поздних произведениях) приметы социальной неустроенности, от городской свалки до газетного официоза и бюрократического хаоса47.
Роман “Хромая судьба” (1982) сложным и в то же время удивительно органичным образом соединяет “странные”, “фантастические” повороты сюжета и неторопливое течение жизни главного героя, писателя Феликса Сорокина, напряженную интригу и предсказуемую повседневность, состоящую из постоянных привычек и постоянных привязанностей. “В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы…” [Т. 9. С. 6] — буквально с первых слов повествование побуждает неотрывно следить за красотой “обычной жизни”, но вместе с тем (и именно поэтому) обещает появление “чего-то необычного”, особого, того, что могло бы оправдать столь явное чувство осмысленности происходящего.
Этот текст — последовательное вменение смысла обыденным действиям, которые совершает стареющий человек. Герой (и нарратор) “Хромой судьбы” полностью включен во все микрособытия романа — он моет посуду, спускается в кондитерскую за коньяком и “Салютом”, обедает картошкой с тушенкой, перебирает книги на полках, ужинает в ресторане Дома литераторов, переживая важность и ценность каждой минуты, не упуская ни одной детали, способной доставлять чувство беспричинного счастья, будь то страницы с золотым обрезом или солянка “в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины” [Там же. С. 73].
Фантастическое здесь играет весьма служебную роль, воображение Феликса Сорокина почти всегда чуть опережает странные, небывалые происшествия. Неведомая фантастическая сила просвечивает сквозь деятельность подозрительного Института лингвистики (возможно, даже структуральной) и в конце концов персонифицируется в образе автора “Мастера и Маргариты”, но лишь затем, чтобы утвердить главного героя в мысли, которая ему хорошо знакома: “…Поймите меня правильно, Феликс Александрович <…> вижу я сейчас перед собой только лишь потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы <…>. Единственное, что меня интересует, — это ваша Синяя Папка, чтобы роман ваш был написан и закончен” [Там же. С. 292]. Старость сужает круг возможностей. Но каждая из оставшихся способна доставлять чувство беспричинного счастья, исключительно потому, что все-таки и в старости, “пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее” [Там же. С. 26], остается возможность работать.
“СМЫСЛ ТЕКСТА”
“Попытка к бегству” (1962) определена в “Комментариях к пройденному” как особая, “переломная” повесть — текст, с которого “начинаются “настоящие Стругацкие””48. Действительно, фантасты впервые (а позднее — в “Трудно быть богом” (1963), “Хищных вещах века” (1964), “Обитаемом острове” (1967), отчасти в “Малыше” (1970)) пробуют вообразить не столько идеальное будущее, сколько поведение идеального человека в неидеальном (и/или чужом, непонятном) мире. Но о масштабах перелома сообщает другая особенность “Попытки к бегству”: “…это первое наше произведение, в котором мы ощутили всю сладость и волшебную силу ОТКАЗА ОТ ОБЪЯСНЕНИЙ. Любых объяснений — научно-фантастических, логических, чисто научных или даже псевдонаучных. Как сладостно, оказывается, сообщить читателю: произошло ТО-ТО и ТО-ТО, а вот ПОЧЕМУ это произошло, КАК произошло, откуда что взялось — НЕ СУЩЕСТВЕННО! Ибо дело не в этом, а совсем в другом, в том самом, о чем повесть”49.
Цветан Тодоров мог бы констатировать возникновение чистого “фантастического эффекта”: повесть завершается сбоем всех режимов правдоподобия — и тех, которыми мы руководствуемся в повседневной жизни, и тех, которые мы готовы принять, подчиняясь логике знакомого жанра. Вместе с “необъяснимым и необъясненным сквозьвременнным скачком героя”50, вместе с его иррациональным бегством из нацистского (или сталинского51) лагеря в светлый XХII век повествование совершает скачок за пределы жанровых формул научной фантастики52, открывая доступ в захватывающую межжанровую зону, в которой, кажется, все возможно.
Удивительная свобода этого нарративного бегства, безусловно, прямо связана с теми ценностными ориентирами, о которых шла речь в предыдущей главке статьи. Поскольку “частные” ценности в данном случае отвоевываются у “публичных”, частная сфера опознается не в последнюю очередь через ресурсы отказа от предписанных норм. Возможность такого отказа сама по себе становится практически нормой, включается в нормативную структуру “приватной жизни” — моделью отклоняющегося поведения будет не высокий, героизированный бунт, представляющий угрозу для любых границ частного пространства, но намеренно сниженное, подчеркнуто “бытовое” нарушение правил.
Знаки подобных нарушений легко обнаружить у Стругацких — будь то запретная банка мидий или неправильная речь иностранца (в усиленном варианте — инопланетянина), обходящегося без переводчика. Стоит заметить, что в антиутопическом Граде Обреченном проблема иноязычия радикально устранена — подопытным горожанам, выходцам из разных стран, кажется, что все они говорят на одном языке. (Похожую иллюзию испытывает абориген “невежественной”, “средневековой”, “феодальной” планеты Саула, на которую попадают персонажи “Попытки к бегству”, — в его интерпретации высокотехнологичная аппаратура, используемая землянами-коммунарами в переводческих целях, предельно проста: “Ты слышишь чужую речь, а понимаешь ее как свою” [Т. 3. С. 92]). Утопия преодоления вавилонского проклятья воспроизводится именно в негативном режиме, коль скоро заведомо исключает столь важную для Стругацких драматургию осознанного непонимания (ср. эпиграф к повести “Волны гасят ветер”: “Понять — значит упростить”53). Несложно вспомнить, какую роль в “Улитке на склоне” или “Сказке о Тройке” играет официальная нормализующая риторика: социальный аппарат нормализации смысла, его толкования и прояснения легко превращается в свою противоположность — машину абсурда, стирания смысла как такового. Напротив, сознательный отказ от авторских пояснений в “Попытке к бегству” позднее квалифицируется Борисом Стругацким как отсечение лишнего, как концентрация на самом существенном — “том самом, о чем повесть”.
Здесь важно обратить внимание на то, как описывается литературный текст: предполагается, что он имеет отчетливую, заданную авторами внутреннюю цель; напрашивающийся вопрос: “О чем эта повесть?” — фактически представляет собой повествовательный аналог вопроса: “Зачем мы живем?” Рационализированные подобным образом представления об авторском “замысле” и “смысле” текста в ситуации 1960—1970-х годов (“постоттепельной” и “позднесоветской”) тоже оказываются проводниками “частных” ценностей — тут одновременно значимы прагматика литературного произведения и авторская интенция, “общественная польза” и автономность персонального проекта (ср. сочетание пророческой риторики спасения мира (возвещения его гибели) и ресурсов персональной, семейной памяти в фильмах Тарковского; характерно, что связующими звеньями при этом не в последнюю очередь оказываются фигуры недоговоренности, умолчания).
Собственно, прямого ответа на вопрос: “О чем эта повесть?” — в “Комментариях” нет. Рассказ о том, как писалась “Попытка к бегству”, имеет ярко выраженную интригу: авторы сталкиваются с “первым настоящим тупиком в своей рабочей биографии”, с “утратой цели”, а затем успешно преодолевают “творческий кризис”, придумывая “необъяснимый и необъясненный” поворот сюжета повести54. Таким образом, отказ от объяснений не просто соответствует “смыслу” “Попытки к бегству”, но фактически его создает, вновь запуская механизмы целеполагания. Подробно реконструированный Борисом Стругацким изначальный проект произведения, его рациональный “замысел” в ходе работы радикально меняется, причем регулирует эти спонтанные изменения не что иное, как авторский интерес к процедуре письма: “Нам стало неинтересно все, что мы до сих пор придумали <…> Ощущение безысходности и отчаяния, обрушившееся на меня тогда, я запомнил очень хорошо — и сухость во рту, и судорогу мыслей, и болезненный звон в пустой башке”; “…как стало нам снова интересно, как заработала фантазия, как предложения посыпались — словно из творческого рога изобилия!”55
___________________________
32) См., например: Potts S.W. The Second Marxian Invasion: The Fiction of the Strugatsky Brothers.
33) Сербиненко В. Три века скитаний в мире утопии: Читая братьев Стругацких // Новый мир. 1989. № 5. С. 242— 255.
34) Джеймисон Ф. Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее?/ Пер. А. Горных // Фантастическое кино. Эпизод первый. С. 32—49.
35) См., например: Горбунов Ю. Неужели так будут говорить люди будущего? // Звезда. 1961. № 8. С. 221.
36) Стругацкий Б. Комментарии к фантастической повести “Улитка на склоне”. Цит. по изд.: Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне. Опыт академического издания. М.: НЛО, 2006. С. 524.
37) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. С. 72.
38) Там же.
39) Джеймисон Ф. Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? С. 43.
40) Дашкова Т., Степанов Б. Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского “Солярис” и “Сталкер”. С. 322.
41) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. С. 55.
42) Подчеркну — схематичное противопоставление “частного” и “публичного” устраивает меня постольку, поскольку речь идет именно об идеальном, ценностном измерении. В более точной терминологии, конечно, следовало бы говорить не о “частной жизни”, а скорее о “другой публичности” или “приватно-публичной сфере” — см.: Воронков В. Проект “шестидесятников”: движение протеста в СССР // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России. М.: НЛО, 2005. С. 192—196.
43) Этимология лингвистических метафор, включая метафору перевода, о которой пойдет речь ниже, в данном случае вполне прозрачна — Аркадий Стругацкий был переводчиком. Ср. также предположение о его причастности к “Московскому методологическому кружку” Георгия Щедровицкого, где термины “семиотика” и “структура” были в ходу (Howell Y. Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky).
44) См., например: Suvin D. On the SF Opus of the Strugatsky Brothers // Suvin D. Positions and Presuppositions in Science Fiction. Houndmills; Basingstoke; Hampshire: Macmillan Press, 1988. P. 171.
45) Ср. о множественности “кодов комического” в “Понедельнике”: Kozlowski E.Z. Multiple Comic Coding: Comedy, Satire and Parody in the Strugatsky’s Tale “Monday Begins on Saturday” // Twentieth-century Russian literature: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies / Еd. by K.L. Ryan and B.P. Scherr. Houndmills; Basingstoke; Hampshire: Macmillan Press; N.Y: St. Martin’s Press, 2000.
46) Стругацкий А. [Беседа с С. Бондаренко, И. Евсеевым и др. 26 августа 1990 г.] // Неизвестные Стругацкие. От “Отеля…” до “За миллиард лет…”: черновики, рукописи, варианты / Сост. С. Бондаренко. Донецк: Сталкер, 2006. С. 628.
47) Иную трактовку механизмов читательского “узнавания” таких примет повседневности в текстах Стругацких см.: Дубин Б. Улитка на склоне… лет // Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне. Опыт академического издания. С. 512—513.
48) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. С. 89.
49) Там же.
50) Там же. С. 94.
51) О существовании первого варианта повести, в котором речь шла не о нацистском, а о советском концлагере: Там же.
52) Ср. восприятие и оценку такого жанрового сбоя как писательской неудачи: Кайтох В. Братья Стругацкие. Очерк творчества / Пер. с польск. В. Борисова // Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. соч.: В 11 т. Донецк: Сталкер, 2003. Т. 12 (доп.). С. 409—663.
53) Немаловажно, что афоризм этот принадлежит вымышленному Стругацкими же писателю Строгову. Хотя и, как вспоминает Борис Стругацкий, “с эпиграфом получился маленький конфуз”: спустя несколько лет после первой публикации “Волн” обнаружилось, что по совпадению тот же афоризм был придуман вполне реальным писателем Михаилом Анчаровым и использован в одной из его повестей 1960—1970-х годов. (Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. С. 281—282).
54) Стругацкий Б. Комментарии к пройденному. С. 92—93.
55) Там же.
@темы: «Волны гасят ветер», «Град обреченный», «Жук в муравейнике», «Далёкая Радуга», «За миллиард лет до конца света», Попытка к бегству, Улитка на склоне, Критика, Понедельник начинается в субботу, «Малыш», Сказка о Тройке, «Пикник на обочине», «Страна багровых туч», Комментарии к пройденному, «Отель "У погибшего альпиниста"», «Гадкие лебеди», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Полдень, XXII век», Возвращение (Полдень XXII век), «Путь на Амал