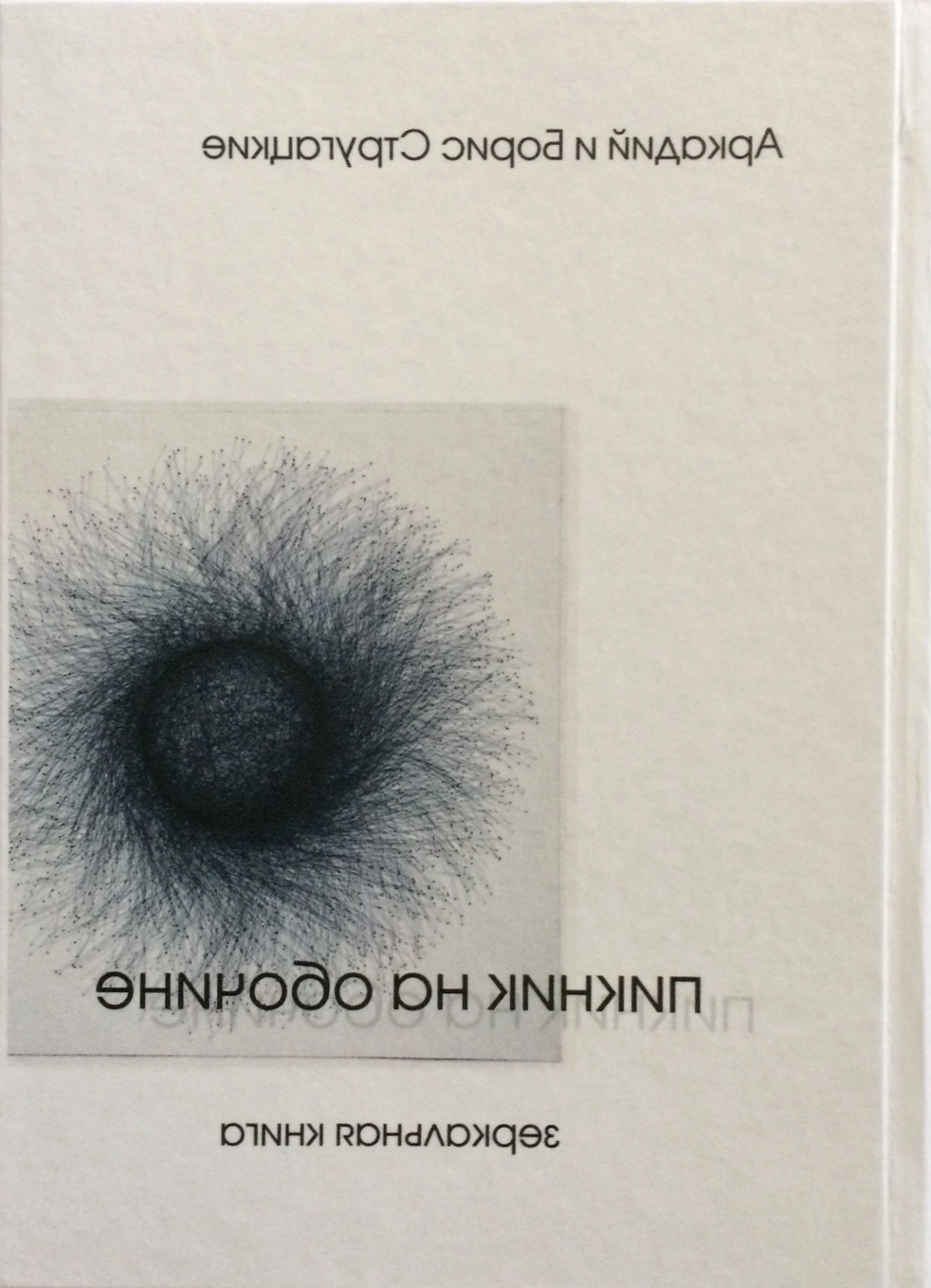Спокойно, Маша, я Дубровский!
Рада, что вы смотрите. В описании список упомянутых книг.
Перед вами гид по творчеству братьев Аркадия и Бориса Стругастких.
Список книг:
Предполуденный цикл.
1. Страна багровых туч
2. Путь на Амальтею
3. Стажёры
Полуденный цикл:
Рассказы и повести:
1. Далёкая Радуга
2. За миллиард лет до конца света
3. Попытка к бегству
Трилогия о Максиме Каммерере:
1. Обитаемый остров
2. Жук в муравейнике
3. Волны гасят ветер
Вне циклов:
1. Пикник на обочине
2. Отель "У погибшего альпиниста"
3. Жиды города Питера
4. Пять ложек эликсира
О НИИЧАВО:
1. Понедельник начинается в субботу
2. Сказка о Тройке
Отсюда: youtu.be/LYzLVbgdHJI?si=KYiCuGhKZhBlz2Mc