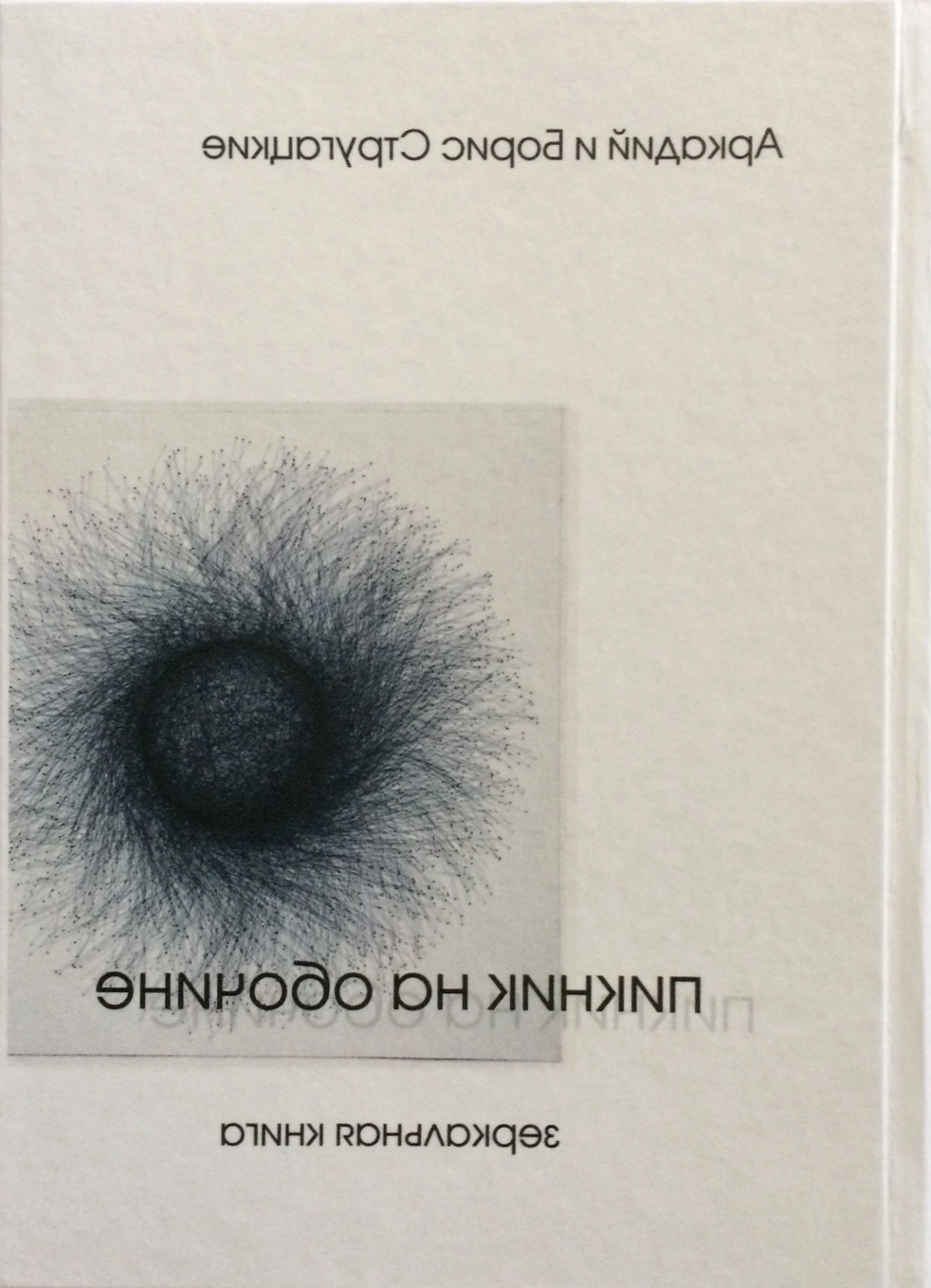Детский недетский вопрос
Программа Дмитрия Брикмана "Детский недетский вопрос".
Детские вопросы взрослым
Интервью, в котором можно молчать
Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – но на этот раз он говорил не за себя, а за Аркадия и Бориса Стругацких. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, Быков отвечает так, как, по его мнению, ответили бы Стругацкие.
По словам Быкова, ему "пришлось пожить Стругацкими, побыть Стругацкими довольно долго". Он написал повесть "Дуга" – продолжение "Далекой радуги", кроме того два произведения Стругацких входили в его университетский курс "Запрещенные книги" – "Пикник" и "Гадкие лебеди".
Отвечая на детский вопрос "Что такое совесть?", Дмитрий Быков, ссылаясь на философский роман Стругацких "Град обреченный", говорит так: "Совесть – это наставник. Который старше тебя, знает и понимает больше". А потом добавляет: "Совесть – это еще и моя связь с предыдущими поколениями. Это то, что судит меня от их имени".
Ответ на вопрос "Что такое честь?": "Честь – это кодекс, которого я не выбирал".
По мнению Быкова, для Бориса Стругацкого была важней совесть, для Аркадия Стругацкого – честь.
Восьмилетняя девочка спросила: "Кто такой хороший человек?" Быков-Стругацкие отвечает: "Это человек, который живёт, чтобы работать, а не человек, который работает, чтобы жить... Это человек, который не ограничен горизонтами человеческого".
"А как бы работала машина "Охоч" (определитель хорошего человека)?" – спрашивает ведущий. Быков считает, что для Стругацких хороший человек – это, прежде всего, профессионал.
Семилетняя девочка спросила: "А что еще может любой дурак?" "Стругацкие думали, что дурак способен на подвиг. Поэтому они не любили ни дураков, ни подвигов", – отвечает Быков.
00:24 - Вступление.
03:17 - Что такое совесть?
04:28 - Что такое честь?
05:25 - Что для вас важнее, совесть или честь?
09:09 - Где растёт счастье?
14:59 - Комната желаний. Чтоб ты сказал или попросил?
16:17 - Как можно понять другого человека?
21:23 - Кто я?
22:27 - Что такое судьба?
31:34 - Что такое Бог?
35:17 - Кто такой хороший человек?
36:59 - Что значит граница человеческого?
41:51 - Есть ли такая машина, которая может определить, хороший человек или нет?
44:38 - Машине времени. В какое время и в какое произведение ты бы полетел?
46:45 - Можно ли изменить другого человека?
49:30 - Что ещё может любой дурак?
52:10 - У вас одна минута, во время неё вас слышит весь мир. Что вы скажете?
Автор и ведущий: Дмитрий Брикман
Графический дизайн: Константин Гаёхо, Влад Граусбард
Композитор: Вячеслав Ганелин
Отсюда: youtu.be/t9tUalfWAPc?si=XZvMffunggabO40h